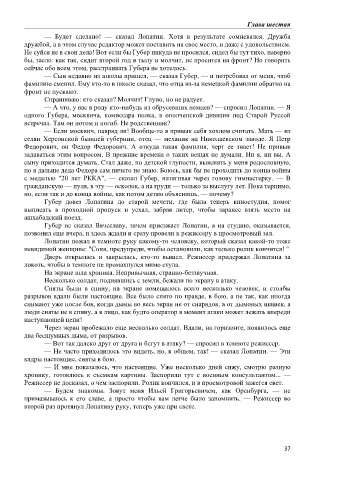Page 37 - Книга Двадцать дней без войны
P. 37
Глава шестая
— Будет сделано! — сказал Лопатин. Хотя в результате сомневался. Дружба
дружбой, а в этом случае редактор может поставить на свое место, и даже с удовольствием.
Не суйся не в свои дела! Вот если бы Губер никуда не просился, сидел бы тут тихо, наверно
бы, заело: как так, сидит второй год в тылу и молчит, не просится на фронт? Но говорить
сейчас обо всем этом, расстраивать Губера не хотелось.
— Сын недавно из школы пришел, — сказал Губер, — и потребовал от меня, чтоб
фамилию сменил. Ему кто-то в школе сказал, что отца из-за немецкой фамилии обратно на
фронт не пускают.
Спрашиваю: кто сказал? Молчит! Глупо, но не радует.
— А что, у вас в роду кто-нибудь из обрусевших немцев? — спросил Лопатин. — Я
одного Губера, москвича, комиссара полка, в ополченской дивизии под Старой Руссой
встречал. Там он потом и погиб. Не родственник?
— Если москвич, навряд ли! Вообще-то я привык себя хохлом считать. Мать — из
селян Херсонской бывшей губернии, отец — механик на Николаевском заводе. Я Петр
Федорович, он Федор Федорович. А откуда такая фамилия, черт ее знает! Не привык
задаваться этим вопросом. В прежние времена о таких вещах не думали. Ни я, ни вы. А
сыну приходится думать. Стал даже, по детской глупости, выяснять у меня родословную,
по я дальше деда Федора сам ничего не знаю. Боюсь, как бы не проходить до конца войны
с медалью "20 лет РККА", — сказал Губер, натягивая через голову гимнастерку. — В
гражданскую — пуля, в эту — осколок, а на груди — только за выслугу лет. Пока терпимо,
но, если так и до конца войны, как потом детям объяснишь, — почему?
Губер довез Лопатина до старой мечети, где была теперь киностудия, помог
выписать в проходной пропуск и уехал, забрав литер, чтобы заранее взять место на
ашхабадский поезд.
Губер не сказал Вячеславу, зачем приезжает Лопатин, а на студию, оказывается,
позвонил еще вчера, и здесь ждали и сразу провели к режиссеру в просмотровый зал.
Лопатин пожал в темноте руку какому-то человеку, который сказал какой-то тоже
невидимой женщине: "Соня, предупреди, чтобы остановили, как только ролик кончится! "
Дверь открылась и закрылась, кто-то вышел. Режиссер придержал Лопатина за
локоть, чтобы в темноте не промахнулся мимо стула.
На экране шла хроника. Непривычная, странно-беззвучная.
Несколько солдат, поднявшись с земли, бежали по экрану в атаку.
Сняты были в спину, на экране помещалось всего несколько человек, и столбы
разрывов вдали были настоящие. Все было снято по правде, в бою, а не так, как иногда
снимают уже после боя, когда дымы во весь экран не от снарядов, а от дымовых шашек, а
люди сняты не в спину, а в лицо, как будто оператор в момент атаки может лежать впереди
наступающей цепи!
Через экран пробежало еще несколько солдат. Вдали, на горизонте, появилось еще
два бесшумных дыма, от разрывов.
— Вот так далеко друг от друга и бегут в атаку? — спросил в темноте режиссер.
— Не часто приходилось это видеть, но, в общем, так! — сказал Лопатин. — Эти
кадры настоящие, сняты в бою.
— И мне показалось, что настоящие. Уже несколько дней сижу, смотрю разную
хронику, готовлюсь к съемкам картины. Заспорили тут с военным консультантом... —
Режиссер не досказал, о чем заспорили. Ролик кончился, и в просмотровой зажегся свет.
— Будем знакомы. Зовут меня Ильей Григорьевичем, как Оренбурга, — не
примазываюсь к его славе, а просто чтобы вам легче было запомнить. — Режиссер во
второй раз протянул Лопатину руку, теперь уже при свете.
37