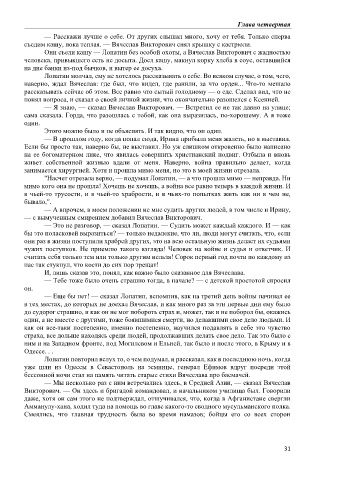Page 31 - Книга Двадцать дней без войны
P. 31
Глава четвертая
— Расскажи лучше о себе. От других слышал много, хочу от тебя. Только сперва
съедим кашу, пока теплая. — Вячеслав Викторович снял крышку с кастрюли.
Они съели кашу — Лопатин без особой охоты, а Вячеслав Викторович с жадностью
человека, привыкшего есть не досыта. Доел кашу, макнул корку хлеба в соус, оставшийся
на дне банки из-под бычков, и вытер ее досуха.
Лопатин молчал, ему не хотелось рассказывать о себе. Во всяком случае, о том, чего,
наверно, ждал Вячеслав: где был, что видел, где ранили, за что орден... Что-то мешало
рассказывать сейчас об этом. Все равно что сытый голодному — о еде. Сделал вид, что не
понял вопроса, и сказал о своей личной жизни, что окончательно разошелся с Ксенией.
— Я знаю, — сказал Вячеслав Викторович. — Встретил ее не так давно на улице;
сама сказала. Горда, что разошлась с тобой, как она выразилась, по-хорошему. А я тоже
один.
Этого можно было и не объяснять. И так видно, что он один.
— В прошлом году, когда попал сюда, Ирина прибыла меня жалеть, но я выставил.
Если бы просто так, наверно бы, не выставил. Но уж слишком откровенно было написано
на ее богоматерном лике, что явилась совершить христианский подвиг. Отбыла и вновь
живет собственной жизнью вдали от меня. Наверно, война правильно делает, когда
занимается хирургией. Хотя и прошла мимо меня, но это в моей жизни отрезала.
"Насчет отрезала верно, — подумал Лопатин, — а что прошла мимо — неправда. Ни
мимо кого она не прошла! Хочешь не хочешь, а война все равно теперь в каждой жизни. И
в чьей-то трусости, и в чьей-то храбрости, и в чьих-то попытках жить как ни в чем не,
бывало,".
— А впрочем, в моем положении не мне судить других людей, в том числе и Ирину,
— с вымученным смирением добавил Вячеслав Викторович.
— Это не разговор, — сказал Лопатин. — Судить может каждый каждого. И — как
бы это поласковей выразиться? — только недалекие, что ли, люди могут считать, что, если
они раз в жизни поступили храбрей других, это на всю остальную жизнь делает их судьями
чужих поступков. Не приемлю такого взгляда! Человек на войне и судья и ответчик. И
считать себя только тем или только другим нельзя! Сорок первый год почти по каждому из
нас так стукнул, что кости до сих пор трещат!
И, лишь сказав это, понял, как важно было сказанное для Вячеслава.
— Тебе тоже было очень страшно тогда, в начале? — с детской простотой спросил
он.
— Еще бы нет! — сказал Лопатин, вспомнив, как на третий день войны начинал ее
в тех местах, до которых не доехал Вячеслав, и как много раз за эти первые дни ему было
до судорог страшно, и как он не мог побороть страх и, может, так и не поборол бы, окажись
один, а не вместе с другими, тоже боявшимися смерти, но делавшими свое дело людьми. И
как он все-таки постепенно, именно постепенно, научился подавлять в себе это чувство
страха, все дольше находясь среди людей, продолжавших делать свое дело. Так это было с
ним и на Западном фронте, под Могилевом и Ельней, так было и после этого, в Крыму и в
Одессе. . .
Лопатин повторил вслух то, о чем подумал, и рассказал, как в последнюю ночь, когда
уже шли из Одессы в Севастополь на эсминце, генерал Ефимов вдруг посреди этой
бессонной ночи стал на память читать старые стихи Вячеслава про басмачей.
— Мы несколько раз с ним встречались здесь, в Средней Азии, — сказал Вячеслав
Викторович. — Он здесь и бригадой командовал, и начальником училища был. Говорили
даже, хотя он сам этого не подтверждал, отшучивался, что, когда в Афганистане свергли
Амманулу-хана, ходил туда на помощь во главе какого-то сводного мусульманского полка.
Смеялись, что главная трудность была во время намазов; бойцы его со всех сторон
31