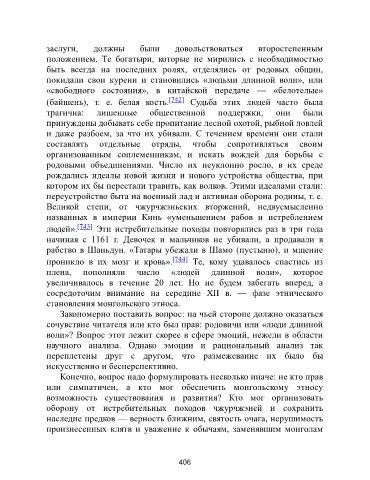Page 406 - Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., АСТ.1989.
P. 406
заслуги, должны были довольствоваться второстепенным
положением. Те богатыри, которые не мирились с необходимостью
быть всегда на последних ролях, отделялись от родовых общин,
покидали свои курени и становились «людьми длинной воли», или
«свободного состояния», в китайской передаче — «белотелые»
(байшень), т. е. белая кость. [742] Судьба этих людей часто была
трагична: лишенные общественной поддержки, они были
принуждены добывать себе пропитание лесной охотой, рыбной ловлей
и даже разбоем, за что их убивали. С течением времени они стали
составлять отдельные отряды, чтобы сопротивляться своим
организованным соплеменникам, и искать вождей для борьбы с
родовыми объединениями. Число их неуклонно росло, в их среде
рождались идеалы новой жизни и нового устройства общества, при
котором их бы перестали травить, как волков. Этими идеалами стали:
переустройство быта на военный лад и активная оборона родины, т. е.
Великой степи, от чжурчжэньских вторжений, недвусмысленно
названных в империи Кинь «уменьшением рабов и истреблением
людей». [743] Эти истребительные походы повторялись раз в три года
начиная с 1161 г. Девочек и мальчиков не убивали, а продавали в
рабство в Шаньдун. «Татары убежали в Шамо (пустыню), и мщение
проникло в их мозг и кровь». [744] Те, кому удавалось спастись из
плена, пополняли число «людей длинной воли», которое
увеличивалось в течение 20 лет. Но не будем забегать вперед, а
сосредоточим внимание на середине XII в. — фазе этнического
становления монгольского этноса.
Закономерно поставить вопрос: на чьей стороне должно оказаться
сочувствие читателя или кто был прав: родовичи или «люди длинной
воли»? Вопрос этот лежит скорее в сфере эмоций, нежели в области
научного анализа. Однако эмоции и рациональный анализ так
переплетены друг с другом, что размежевание их было бы
искусственно и бесперспективно.
Конечно, вопрос надо формулировать несколько иначе: не кто прав
или симпатичен, а кто мог обеспечить монгольскому этносу
возможность существования и развития? Кто мог организовать
оборону от истребительных походов чжурчжэней и сохранить
наследие предков — верность ближним, святость очага, нерушимость
произнесенных клятв и уважение к обычаям, заменявшим монголам
406