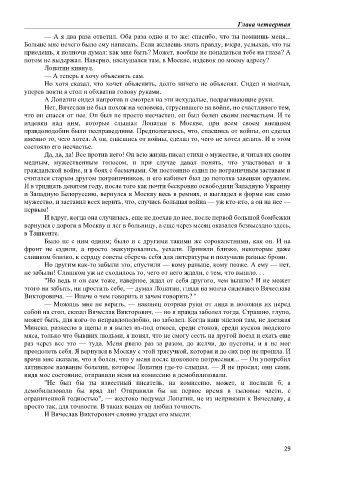Page 29 - "Двадцать дней без войны"
P. 29
Глава четвертая
— А я два раза ответил. Оба раза одно и то же: спасибо, что ты помнишь меня...
Больше мне нечего было ему написать. Если желаешь знать правду, вчера, услыхав, что ты
приедешь, я полночи думал: как мне быть? Может, вообще не попадаться тебе на глаза? А
потом не выдержал. Наверно, наслушался там, в Москве, издевок по моему адресу?
Лопатин кивнул.
— А теперь я хочу объяснить сам.
Но хотя сказал, что хочет объяснить, долго ничего не объяснял. Сидел и молчал,
уперев локти в стол и обхватив голову руками.
А Лопатин сидел напротив и смотрел на эти исхудалые, подрагивающие руки.
Нет, Вячеслав не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем,
что он спасся от нее. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастьем. И те
издевки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всем своем внешнем
правдоподобии были несправедливы. Предполагалось, что, спасшись от войны, он сделал
именно то, чего хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом
состояло его несчастье.
Да, да, да! Все против него! Он всю жизнь писал стихи о мужестве, и читал их своим
медным, мужественным голосом, и при случае давал понять, что участвовал и в
гражданской войне, и в боях с басмачами. Он постоянно ездил по пограничным заставам и
считался старым другом пограничников, и его кабинет был до потолка завешан оружием.
И в тридцать девятом году, после того как почти бескровно освободили Западную Украину
и Западную Белоруссию, вернулся в Москву весь в ремнях, и выглядел в форме как само
мужество, и заставил всех верить, что, случись большая война — уж кто-кто, а он на нее —
первым!
И вдруг, когда она случилась, еще не доехав до нее, после первой большой бомбежки
вернулся с дороги в Москву и лег в больницу, а еще через месяц оказался безвыездно здесь,
в Ташкенте.
Было не с ним одним; было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на
фронт не ездили, а просто эвакуировались, уехали. Приняли близко, некоторые даже
слишком близко, к сердцу советы сберечь себя для литературы и получили разные брони.
Но другим как-то забыли это, спустили — кому раньше, кому позже. А ему — нет,
не забыли! Слишком уж не сходилось то, чего от него ждали, с тем, что вышло. . .
"Но ведь и он сам тоже, наверное, ждал от себя другого, чем вышло? И не может
этого ни забыть, ни простить себе, — думал Лопатин, глядя на молча сидевшего Вячеслава
Викторовича. — Иначе о чем говорить и зачем говорить? "
— Можешь мне не верить, — наконец оторвав руки от лица и положив их перед
собой на стол, сказал Вячеслав Викторович, — но я правда заболел тогда. Страшно, глупо,
может быть, для кого-то неправдоподобно, но заболел. Когда наш эшелон там, не доезжая
Минска, разнесло в щепы и я вылез из-под откоса, среди стонов, среди кусков людского
мяса, только что бывших людьми, я понял, что не смогу сесть на другой поезд и ехать еще
раз через все это — туда. Меня рвало раз за разом, до желчи, до пустоты, и я не мог
преодолеть себя. Я вернулся в Москву с этой трясучкой, которая и до сих пор не прошла. И
врачи мне сказали, что я болен, что у меня после шокового потрясения... — Он употребил
латинское название болезни, которое Лопатин где-то слышал. — Я не просил; они сами,
видя мое состояние, отправили меня на комиссию и демобилизовали.
"Не был бы ты известный писатель, на комиссию, может, и послали б, а
демобилизовали бы вряд ли! Отправили бы на первое время в тыловые части, с
ограниченной годностью", — жестоко подумал Лопатин, не из неприязни к Вячеславу, а
просто так, для точности. В таких вещах он любил точность.
И Вячеслав Викторович словно угадал его мысли:
29