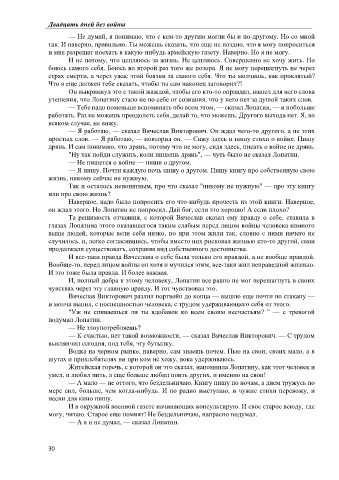Page 30 - "Двадцать дней без войны"
P. 30
Двадцать дней без войны
— Не думай, я понимаю, что с кем-то другим могли бы и по-другому. Но со мной
так. И наверно, правильно. Ты можешь сказать, что еще не поздно, что я могу попроситься
и мне разрешат поехать в какую-нибудь армейскую газету. Наверно. Но я не могу.
И не потому, что цепляюсь за жизнь. Не цепляюсь. Совершенно не хочу жить. Но
боюсь самого себя. Боюсь во второй раз того же позора. Я не могу перешагнуть не через
страх смерти, а через ужас этой боязни за самого себя. Что ты молчишь, как проклятый?
Что я еще должен тебе сказать, чтобы ты сам наконец заговорил?!
Он выкрикнул это с такой жаждой, чтобы его кто-то оправдал, нашел для него слова
утешения, что Лопатину стало не по себе от сознания, что у него нет за душой таких слов.
— Тебе надо поменьше вспоминать обо всем этом, — сказал Лопатин, — и побольше
работать. Раз не можешь преодолеть себя, делай то, что можешь. Другого выхода нет. Я, во
всяком случае, не вижу.
— Я работаю, — сказал Вячеслав Викторович. Он ждал чего-то другого, а не этих
простых слов. — Я работаю, — повторил он. — Сижу здесь и пишу стихи о войне. Пишу
дрянь. И сам понимаю, что дрянь, потому что не могу, сидя здесь, писать о войне не дрянь.
"Ну так пойди служить, коли пишешь дрянь", — чуть было не сказал Лопатин.
— Не пишется о войне — пиши о другом.
— Я пишу. Почти каждую ночь пишу о другом. Пишу книгу про собственную свою
жизнь, никому сейчас не нужную.
Так и осталось непонятным, про что сказал "никому не нужную" — про эту книгу
или про свою жизнь?
Наверное, надо было попросить его что-нибудь прочесть из этой книги. Наверное,
он ждал этого. Но Лопатин не попросил. Дай бог, если это хорошо! А если плохо?
Та решимость отчаяния, с которой Вячеслав сказал ему правду о себе, ставила в
глазах Лопатина этого оказавшегося таким слабым перед лицом войны человека намного
выше людей, которые вели себя низко, но при этом жили так, словно с ними ничего не
случилось, и, легко согласившись, чтобы вместо них рисковал жизнью кто-то другой, сами
продолжали существовать, сохраняя вид собственного достоинства.
И все-таки правда Вячеслава о себе была только его правдой, а не вообще правдой.
Вообще-то, перед лицом войны он хотя и мучился этим, все-таки жил неправедной жизнью.
И это тоже была правда. И более важная.
И, полный добра к этому человеку, Лопатин все равно не мог перешагнуть в своих
чувствах через эту главную правду. И тот чувствовал это.
Вячеслав Викторович разлил портвейн до конца — вышло еще почти по стакану —
и молча выпил, с поспешностью человека, с трудом удерживающего себя от этого.
"Уж не спиваешься ли ты вдобавок ко всем своим несчастьям? " — с тревогой
подумал Лопатин.
— Не злоупотребляешь?
— К счастью, нет такой возможности, — сказал Вячеслав Викторович. — С трудом
выклянчил сегодня, под тебя, эту бутылку.
Водка на черном рынке, наверно, сам знаешь почем. Пью на свои, своих мало, а в
шутах и прихлебателях ни при ком не хожу, пока удерживаюсь.
Житейская горечь, с которой он это сказал, напомнила Лопатину, как этот человек и
умел, и любил пить, а еще больше любил поить других, и именно на свои!
— А мало — не оттого, что бездельничаю. Книгу пишу по ночам, а днем тружусь по
мере сил, больше, чем когда-нибудь. И по радио выступаю, и чужие стихи перевожу, и
песни для кино пишу.
И в окружной военной газете начинающих консультирую. И свое старое всюду, где
могу, читаю. Старое еще помнят! Не бездельничаю, напрасно подумал.
— А я и не думал, — сказал Лопатин.
30