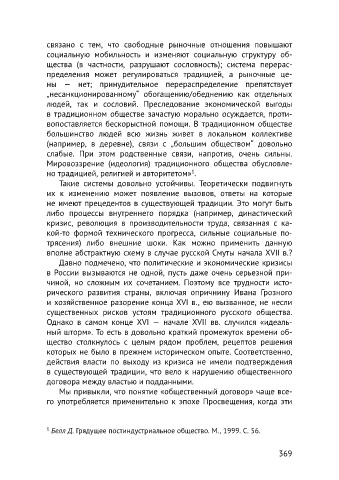Page 371 - Популярный обзор русской истории: VI—XVII вв.
P. 371
связано с тем, что свободные рыночные отношения повышают
социальную мобильность и изменяют социальную структуру об-
щества (в частности, разрушают сословность); система перерас-
пределения может регулироваться традицией, а рыночные це-
ны — нет; принудительное перераспределение препятствует
„несанкционированному“ обогащению/обеднению как отдельных
людей, так и сословий. Преследование экономической выгоды
в традиционном обществе зачастую морально осуждается, проти-
вопоставляется бескорыстной помощи. В традиционном обществе
большинство людей всю жизнь живет в локальном коллективе
(например, в деревне), связи с „большим обществом“ довольно
слабые. При этом родственные связи, напротив, очень сильны.
Мировоззрение (идеология) традиционного общества обусловле-
1
но традицией, религией и авторитетом» .
Такие системы довольно устойчивы. Теоретически подвигнуть
их к изменению может появление вызовов, ответы на которые
не имеют прецедентов в существующей традиции. Это могут быть
либо процессы внутреннего порядка (например, династический
кризис, революция в производительности труда, связанная с ка-
кой-то формой технического прогресса, сильные социальные по-
трясения) либо внешние шоки. Как можно применить данную
вполне абстрактную схему в случае русской Смуты начала XVII в.?
Давно подмечено, что политические и экономические кризисы
в России вызываются не одной, пусть даже очень серьезной при-
чиной, но сложным их сочетанием. Поэтому все трудности исто-
рического развития страны, включая опричнину Ивана Грозного
и хозяйственное разорение конца XVI в., ею вызванное, не несли
существенных рисков устоям традиционного русского общества.
Однако в самом конце XVI — начале XVII вв. случился «идеаль-
ный шторм». То есть в довольно краткий промежуток времени об-
щество столкнулось с целым рядом проблем, рецептов решения
которых не было в прежнем историческом опыте. Соответственно,
действия власти по выходу из кризиса не имели подтверждения
в существующей традиции, что вело к нарушению общественного
договора между властью и подданными.
Мы привыкли, что понятие «общественный договор» чаще все-
го употребляется применительно к эпохе Просвещения, когда эти
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. С. 56.
369