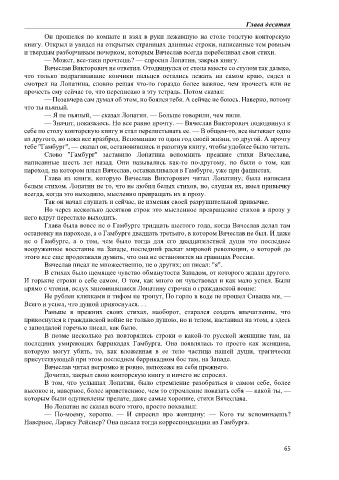Page 65 - "Двадцать дней без войны"
P. 65
Глава десятая
Он прошелся по комнате и взял в руки лежавшую на столе толстую конторскую
книгу. Открыл и увидел на открытых страницах длинные строки, написанные тем ровным
и твердым разборчивым почерком, которым Вячеслав всегда перебеливал свои стихи.
— Может, все-таки прочтешь? — спросил Лопатин, закрыв книгу.
Вячеслав Викторович не ответил. Отодвинулся от стола вместе со стулом так далеко,
что только подрагивавшие кончики пальцев остались лежать на самом краю, сидел и
смотрел на Лопатина, словно решая что-то гораздо более важное, чем прочесть или не
прочесть ему сейчас то, что переписано в эту тетрадь. Потом сказал:
— Позавчера сам думал об этом, но боялся тебя. А сейчас не боюсь. Наверно, потому
что ты пьяный.
— Я не пьяный, — сказал Лопатин. — Больше говорили, чем пили.
— Значит, показалось. Но все равно прочту. — Вячеслав Викторович пододвинул к
себе по столу конторскую книгу и стал перелистывать ее. — В общем-то, все вытекает одно
из другого, но пока все вразброд. Вспоминаю то один год своей жизни, то другой. А прочту
тебе "Гамбург", — сказал он, остановившись и разогнув книгу, чтобы удобнее было читать.
Слово "Гамбург" заставило Лопатина вспомнить прежние стихи Вячеслава,
написанные шесть лет назад. Они назывались как-то по-другому, но были о том, как
пароход, на котором плыл Вячеслав, останавливался в Гамбурге, уже при фашистах.
Глава из книги, которую Вячеслав Викторович читал Лопатину, была написана
белым стихом. Лопатин не то, что не любил белых стихов, но, слушая их, имел привычку
всегда, когда это выходило, мысленно превращать их в прозу.
Так он начал слушать и сейчас, не изменяя своей разрушительной привычке.
Но через несколько десятков строк это мысленное превращение стихов в прозу у
него вдруг перестало выходить.
Глава была вовсе не о Гамбурге тридцать шестого года, когда Вячеслав делал там
остановку на пароходе, а о Гамбурге двадцать третьего, в котором Вячеслав не был. И даже
не о Гамбурге, а о том, чем было тогда для его двадцатилетней души это последнее
вооруженное восстание на Западе, последний раскат мировой революции, о которой до
этого все еще продолжали думать, что она не остановится на границах России.
Вячеслав писал не множественно, не о других; он писал: "я".
В стихах было щемящее чувство обманутости Западом, от которого ждали другого.
И горькие строки о себе самом. О том, как много он чувствовал и как мало успел. Были
прямо с чтения, вслух запомнившиеся Лопатину строчки о гражданской воине:
Не рублен клинками и тифом не тронут, По горло в воде не прошел Сиваша ми, —
Всего и успел, что душой прикоснулся. . .
Раньше в прежних своих стихах, наоборот, старался создать впечатление, что
прикоснулся к гражданской войне не только душою, но и телом, настаивал на этом, а здесь
с запоздалой горечью писал, как было.
В поэме несколько раз повторялись строки о какой-то русской женщине там, на
последних умирающих баррикадах Гамбурга. Она появлялась то просто как женщина,
которую могут убить, то, как вложенная в ее тело частица нашей души, трагически
присутствующей при этом последнем баррикадном бое там, на Западе.
Вячеслав читал негромко и ровно, непохоже на себя прежнего.
Дочитал, закрыл свою конторскую книгу и ничего не спросил.
В том, что услышал Лопатин, было стремление разобраться в самом себе, более
высокое и, наверное, более нравственное, чем то стремление показать себя — какой ты, —
которым были одушевлены прелате, даже самые хорошие, стихи Вячеслава.
Но Лопатин не сказал всего этого, просто похвалил:
— По-моему, хорошо. — И спросил про женщину: — Кого ты вспоминаешь?
Наверное, Ларису Рейснер? Она писала тогда корреспонденции из Гамбурга.
65