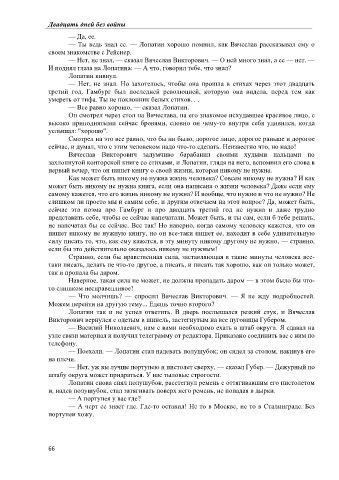Page 66 - "Двадцать дней без войны"
P. 66
Двадцать дней без войны
— Да, ее.
— Ты ведь знал ее. — Лопатин хорошо помнил, как Вячеслав рассказывал ему о
своем знакомстве с Рейснер.
— Нет, не знал, — сказал Вячеслав Викторович. — О ней много знал, а ее — нет. —
И поднял глаза на Лопатина: — А что, говорил тебе, что знал?
Лопатин кивнул.
— Нет, не знал. Но захотелось, чтобы она прошла в стихах через этот двадцать
третий год. Гамбург был последней революцией, которую она видела, перед тем как
умереть от тифа. Ты не поклонник белых стихов. . .
— Все равно хорошо, — сказал Лопатин.
Он смотрел через стол на Вячеслава, на его знакомое исхудавшее красивое лицо, с
высоко приподнятыми сейчас бровями, словно он чему-то внутри себя удивился, когда
услышал: "хорошо".
Смотрел на это все равно, что бы ни было, дорогое лицо, дорогое раньше и дорогое
сейчас, и думал, что с этим человеком надо что-то сделать. Неизвестно что, но надо!
Вячеслав Викторович задумчиво барабанил своими худыми пальцами по
захлопнутой конторской книге со стихами, и Лопатин, глядя на него, вспомнил его слова в
первый вечер, что он пишет книгу о своей жизни, которая никому не нужна.
Как может быть никому не нужна жизнь человека? Совсем никому не нужна? И как
может быть никому не нужна книга, если она написана о жизни человека? Даже если ему
самому кажется, что его жизнь никому не нужна? И вообще, что нужно и что не нужно? Не
слишком ли просто мы и самим себе, и другим отвечаем на этот вопрос? Да, может быть,
сейчас эта поэма про Гамбург и про двадцать третий год не нужна и даже трудно
представить себе, чтобы ее сейчас напечатали. Может быть, и ты сам, если б тебе решать,
не напечатал бы ее сейчас. Все так! Но наверно, когда самому человеку кажется, что он
пишет никому не нужную книгу, но он все-таки пишет ее, находит в себе удивительную
силу писать то, что, как ему кажется, в эту минуту никому другому не нужно, — странно,
если бы это действительно оказалось никому не нужным!
Странно, если бы нравственная сила, заставляющая в такие минуты человека все-
таки писать, делать не что-то другое, а писать, и писать так хорошо, как он только может,
так и пропала бы даром.
Наверное, такая сила не может, не должна пропадать даром — в этом было бы что-
то слишком несправедливое!
— Что молчишь? — спросил Вячеслав Викторович. — Я не жду подробностей.
Можем перейти на другую тему... Едешь точно второго?
Лопатин так и не успел ответить. В дверь послышался резкий стук, и Вячеслав
Викторович вернулся с одетым в шинель, застегнутым на все пуговицы Губером.
— Василий Николаевич, нам с вами необходимо ехать в штаб округа. Я сдавал на
узле связи материал и получил телеграмму от редактора. Приказано соединить вас с ним по
телефону.
— Поехали. — Лопатин стал надевать полушубок; он сидел за столом, накинув его
на плечи.
— Нет, уж вы лучше портупею и пистолет сверху, — сказал Губер. — Дежурный по
штабу округа может придраться. У нас тыловые строгости.
Лопатин снова снял полушубок, расстегнул ремень с оттягивавшим его пистолетом
и, надев полушубок, стал затягивать поверх него ремень, не попадая в дырки.
— А портупея у вас где?
— А черт ее знает где. Где-то оставил! Не то в Москве, не то в Сталинграде. Без
портупеи хожу.
66