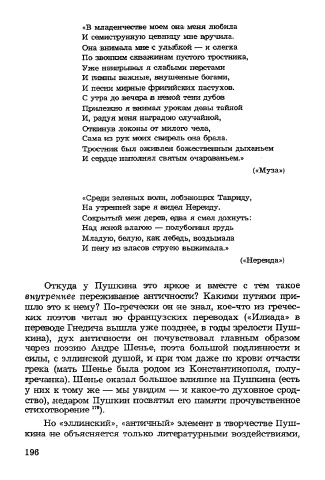Page 199 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992
P. 199
«В младенчестве моем она меня любила
И семиструнную цевницу мне вручила.
Она внимала мне с улыбкой — и слегка
По звонким сиважинам пустсхго тростника,
У ж е наитрьгоал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.»
(«М уза»)
«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою — полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.»
(«Нереида»)
Откуда у Пушкина это яркое и вместе с тем такое
внутреннее переживание античности? Какими путями при
шло это к нему? По-гречески он не знал, кое-что из гречес
ких поэтов читал во французских переводах («Илиада» в
переводе Гнедича вышла уж е позднее, в годы зрелости Пуш
кина), дух античности он почувствовал главным образом
через поэзию Андре Шенье, поэта большой подлинности и
силы, с эллинской душой, и при том даже по крови отчасти
грека (мать Шенье была родом из Константинополя, гголу-
вречанка). Шенье оказал большое влияние на Пушкина (есть
у них к тому же — мы увидим — и какое-то духовное срод
ство), недаром Пушкин посвятил его памяти прочувственное
стихотворение179).
Но «эллинский», «античный» элемент в творчестве Пуш
кина не объясняется только литературными воздействиями,
196