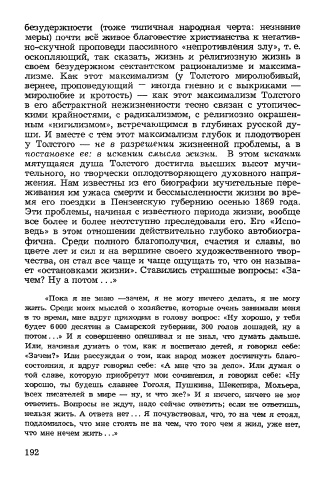Page 195 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992
P. 195
безудержности (тоже типичная народная черта: незнание
меры) почти всё живое благовестие христианства к негатив
но-скучной проповеди пассивного «непротивления злу», т. е.
оскопляющий, так сказать, жизнь и религиозную жизнь в
своем безудержном сектантском рационализме и максима
лизме. Как этот максимализм (у Толстого миролюбивый,
вернее, проповедующий — иногда гневно и с выкриками —
миролюбие и кротость) — как этот максимализм Толстого
в его абстрактной нежизненности тесно связан с утопичес
кими крайностями, с радикализмом, с религиозно окрашен
ным «нигилизмом», встречающимся в глубинах русской ду
ши. И вместе с тем этот максимализм глубок и плодотворен
у Толстого — не в разрешении жизненной проблемы, а в
постановке ее: в искании смысла жизни. В этом искании
мятущаяся душа Толстого достигла высших высот мучи
тельного, но творчески оплодотворяющего духовного напря
жения. Нам известны из его биографии мучительные пере
живания им ужаса смерти и бессмысленности жизни во вре
мя его поездки в Пензенскую губернию осенью 1869 года.
Эти проблемы, начиная с известного периода жизни, вообще
вое более и более неотступно преследовали его. Его «Испо
ведь» в этом отношении действительно глубоко автобиогра
фична. Среди полного благополучия, счастия и славы, во
цвете лет и сил и на вершине своего художественного твор
чества, он стал все чаще и чаще ощущать то, что он называ
ет «остановками жизни». Ставились страшные вопросы: «За
чем? Ну а потом... »
«Пока я не знаю — зачем, я не могу ничего делать, я не могу
жить. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня
в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя
будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, ну а
потом...» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше.
Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе:
«Зачем?» Или рассуждал о том, как народ может достигнуть благо
состояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело». Или думая о
той славе, которую приобретут мои сочинения, я говорил себе: «Ну
хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера,
|воех писателей в мире — ну, и что же?» И я ничего, ничего не мог
ответить. Вопросы не ждут, надо сейчас ответить; если не ответишь,
нельзя жить. А ответа нет... Я почувствовал, что, то на чем я стоял,
подломилось, что мне стоять не на чем, что того чем я жил, уже нет,
что мне нечем жить ...»
192