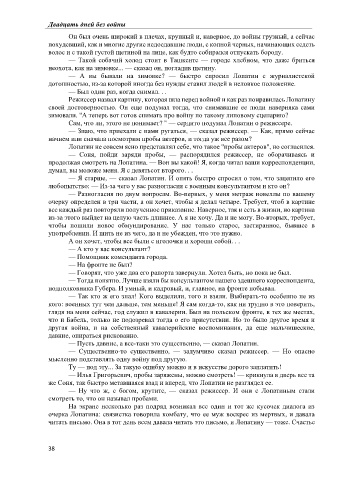Page 38 - "Двадцать дней без войны"
P. 38
Двадцать дней без войны
Он был очень широкий в плечах, крупный и, наверное, до войны грузный, а сейчас
похудевший, как и многие другие недоедавшие люди, с копной черных, начинающих седеть
волос и с такой густой щетиной на лице, как будто собирался отпускать бороду.
— Такой собачий холод стоит в Ташкенте — городе хлебном, что даже бриться
неохота, как на зимовке... — сказал он, погладив щетину.
— А вы бывали на зимовке? — быстро спросил Лопатин с журналистской
дотошностью, из-за которой иногда без нужды ставил людей в неловкое положение.
— Был один раз, когда снимал. . .
Режиссер назвал картину, которая шла перед войной и как раз понравилась Лопатину
своей достоверностью. Он еще подумал тогда, что снимавшие ее люди наверняка сами
зимовали. "А теперь вот готов снимать про войну по такому липовому сценарию?
Сам, что ли, этого не понимает? " — сердито подумал Лопатин о режиссере.
— Знаю, что приехали с нами ругаться, — сказал режиссер. — Как, прямо сейчас
начнем или сначала посмотрим пробы актеров, и тогда уж все разом?
Лопатин не совсем ясно представлял себе, что такое "пробы актеров", но согласился.
— Соня, пойди заряди пробы, — распорядился режиссер, не оборачиваясь и
продолжая смотреть на Лопатина. — Вон вы какой! Я, когда читал ваши корреспонденции,
думал, вы моложе меня. Я с девятьсот второго. . .
— Я старше, — сказал Лопатин. И опять быстро спросил о том, что зацепило его
любопытство: — Из-за чего у вас разногласия с военным консультантом и кто он?
— Разногласия по двум вопросам. Во-первых, у меня метраж новеллы по вашему
очерку определен в три части, а он хочет, чтобы я делал четыре. Требует, чтоб в картине
все каждый раз повторяли полученное приказание. Наверное, так и есть в жизни, но картина
из-за этого выйдет на целую часть длиннее. А я не хочу. Да и не могу. Во-вторых, требует,
чтобы пошили новое обмундирование. У нас только старое, застиранное, бывшее в
употреблении. И шить не из чего, да и не убежден, что это нужно.
А он хочет, чтобы все были с иголочки и хороши собой. . .
— А кто у вас консультант?
— Помощник коменданта города.
— На фронте не был?
— Говорят, что уже два его рапорта завернули. Хотел быть, но пока не был.
— Тогда понятно. Лучше взяли бы консультантом нашего здешнего корреспондента,
подполковника Губера. И умный, и кадровый, и, главное, на фронте побывал.
— Так кто ж его знал! Кого выделили, того и взяли. Выбирать-то особенно не из
кого: военных тут чем дальше, тем меньше! Я сам когда-то, как ни трудно в это поверить,
глядя на меня сейчас, год служил в кавалерии. Был на польском фронте, в тех же местах,
что и Бабель, только не подозревал тогда о его присутствии. Но то было другое время и
другая война, и на собственный кавалерийские воспоминания, да еще мальчишеские,
давние, опираться рискованно.
— Пусть давние, а все-таки это существенно, — сказал Лопатин.
— Существенно-то существенно, — задумчиво сказал режиссер. — Но опасно
мысленно подставлять одну войну под другую.
Ту — под эту... За такую ошибку можно и в искусстве дорого заплатить!
— Илья Григорьевич, пробы заряжены, можно смотреть! — крикнула в дверь все та
же Соня, так быстро метавшаяся взад и вперед, что Лопатин не разглядел ее.
— Ну что ж, с богом, крутите, — сказал режиссер. И они с Лопатиным стали
смотреть то, что он называл пробами.
На экране несколько раз подряд возникал все один и тот же кусочек диалога из
очерка Лопатина: связистка говорила комбату, что ее муж воскрес из мертвых, и давала
читать письмо. Она в тот день всем давала читать это письмо, и Лопатину — тоже. Счастье
38