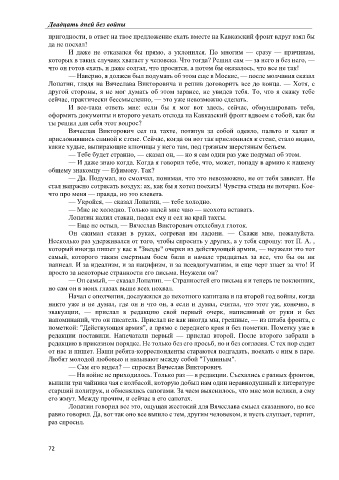Page 72 - "Двадцать дней без войны"
P. 72
Двадцать дней без войны
пригодности, в ответ на твое предложение ехать вместе на Кавказский фронт вдруг взял бы
да не поехал!
И даже не отказался бы прямо, а уклонился. По многим — сразу — причинам,
которых в таких случаях хватает у человека. Что тогда? Решил сам — за него и без него, —
что он готов ехать, и даже солгал, что просится, а потом бы оказалось, что все не так!
— Наверно, я должен был подумать об этом еще в Москве, — после молчания сказал
Лопатин, глядя на Вячеслава Викторовича и решив договорить все до конца. — Хотя, с
другой стороны, я не мог думать об этом заранее, не увидев тебя. То, что я скажу тебе
сейчас, практически бессмысленно, — это уже невозможно сделать.
И все-таки ответь мне: если бы я мог вот здесь, сейчас, обмундировать тебя,
оформить документы и второго уехать отсюда на Кавказский фронт вдвоем с тобой, как бы
ты решил для себя этот вопрос?
Вячеслав Викторович сел на тахте, потянув за собой одеяло, пальто и халат и
прислонившись спиной к стене. Сейчас, когда он вот так прислонился к стене, стало видно,
какие худые, выпирающие ключицы у него там, под грязным шерстяным бельем.
— Тебе будет странно, — сказал он, — но я сам один раз уже подумал об этом.
— И даже знаю когда. Когда я говорил тебе, что, может, попаду в армию к нашему
общему знакомцу — Ефимову. Так?
— Да. Подумал, но смолчал, понимая, что это невозможно, не от тебя зависит. Не
стал напрасно сотрясать воздух: ах, как бы я хотел поехать! Чувства стыда не потерял. Кое-
что про меня — правда, но это клевета.
— Укройся, — сказал Лопатин, — тебе холодно.
— Мне не холодно. Только налей мне чаю — неохота вставать.
Лопатин налил стакан, подал ему и сел на край тахты.
— Еще не остыл, — Вячеслав Викторович отхлебнул глоток.
Он сжимал стакан в руках, согревая им ладони. — Скажи мне, пожалуйста.
Несколько раз удерживался от того, чтобы спросить у других, а у тебя спрошу: тот П. А. ,
который иногда пишет у вас в "Звезде" очерки из действующей армии, — неужели это тот
самый, которого таким смертным боем били в начале тридцатых за все, что бы он ни
написал. И за идеализм, и за пацифизм, и за псевдогуманизм, и еще черт знает за что! И
просто за некоторые странности его письма. Неужели он?
— Он самый, — сказал Лопатин. — Странностей его письма я и теперь не поклонник,
но сам он в моих глазах выше всех похвал.
Начал с ополчения, дослужился до пехотного капитана и на второй год войны, когда
никто уже и не думал, где он и что он, а если и думал, считал, что этот уж, конечно, в
эвакуации, — прислал в редакцию свой первый очерк, написанный от руки и без
напоминаний, что он писатель. Прислал не как иногда мы, грешные, — из штаба фронта, с
пометкой: "Действующая армия", а прямо с переднего края и без пометки. Пометку уже в
редакции поставили. Напечатали первый — прислал второй. После второго забрали в
редакцию в приказном порядке. Не только без его просьб, но и без согласия. С тех пор ездит
от нас и пишет. Наши ребята-корреспонденты стараются подгадать, поехать с ним в паре.
Любят молодой любовью и называют между собой "Тушиным".
— Сам его видел? — спросил Вячеслав Викторович.
— На войне не приходилось. Только раз — в редакции. Съехались с разных фронтов,
выпили три чайника чая с колбасой, которую добыл нам один неравнодушный к литературе
старший политрук, и обменялись сапогами. За чаем выяснилось, что мне мои велики, а ему
его жмут. Между прочим, и сейчас в его сапогах.
Лопатин говорил все это, ощущая жестокий для Вячеслава смысл сказанного, но все
равно говорил. Да, вот так оно все вышло с тем, другим человеком, и пусть слушает, терпит,
раз спросил.
72