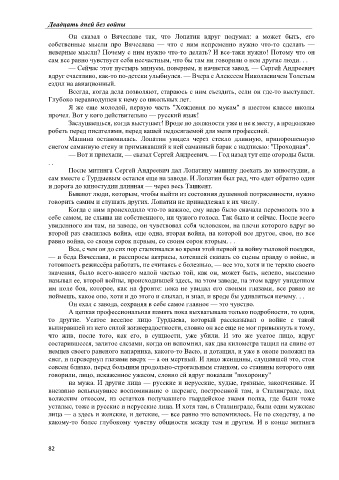Page 82 - "Двадцать дней без войны"
P. 82
Двадцать дней без войны
Он сказал о Вячеславе так, что Лопатин вдруг подумал: а может быть, его
собственные мысли про Вячеслава — что с ним непременно нужно что-то сделать —
неверные мысли? Почему с ним нужно что-то делать? И все-таки нужно! Потому что он
сам все равно чувствует себя несчастным, что бы там ни говорили о нем другие люди. . .
— Сейчас этот пустырь минуем, повернем, и начнется завод, — Сергей Андреевич
вдруг счастливо, как-то по-детски улыбнулся. — Вчера с Алексеем Николаевичем Толстым
ездил на авиационный.
Всегда, когда дела позволяют, стараюсь с ним съездить, если он где-то выступает.
Глубоко неравнодушен к нему со школьных лет.
Я же еще молодой, первую часть "Хождения по мукам" в шестом классе школы
прочел. Вот у кого действительно — русский язык!
Заслушаешься, когда выступает! Вроде по должности уже и не к месту, а продолжаю
робеть перед писателями, перед вашей недосягаемой для меня профессией.
Машина остановилась. Лопатин увидел через стекло длинную, припорошенную
снегом саманную стену и примыкавший к ней саманный барак с надписью: "Проходная".
— Вот и приехали, — сказал Сергей Андреевич. — Год назад тут еще огороды были.
. .
После митинга Сергей Андреевич дал Лопатину машину доехать до киностудии, а
сам вместе с Турдыевым остался еще на заводе. И Лопатин был рад, что едет обратно один
и дорога до киностудии длинная — через весь Ташкент.
Бывают люди, которым, чтобы выйти из состояния душевной потрясенности, нужно
говорить самим и слушать других. Лопатин не принадлежал к их числу.
Когда с ним происходило что-то важное, ему надо было сначала перемолоть это в
себе самом, не слыша ни собственного, ни чужого голоса. Так было и сейчас. После всего
увиденного им там, на заводе, он чувствовал себя человеком, на плечи которого вдруг во
второй раз свалилась война, еще одна, вторая война, на которой все другое, свое, но все
равно война, со своим сорок первым, со своим сорок вторым. . .
Все, с чем он до сих пор сталкивался во время этой первой за войну тыловой поездки,
— и беда Вячеслава, и расспросы актрисы, хотевшей сказать со сцены правду о войне, и
готовность режиссёра работать, не считаясь с болезнью, — все это, хотя и не теряло своего
значения, было всего-навсего малой частью той, как он, может быть, нелепо, мысленно
называл ее, второй войны, происходившей здесь, на этом заводе, на этом вдруг увиденном
им поле боя, которое, как на фронте: пока не увидал его своими глазами, все равно не
поймешь, какое оно, хотя и до этого и слыхал, и знал, и вроде бы удивляться нечему. . .
Он ехал с завода, сохраняя в себе самое главное — это чувство.
А цепкая профессиональная память пока выхватывала только подробности, то одни,
то другие. Усатое веселое лицо Турдыева, который рассказывал о войне с такой
выпиравшей из него силой жизнерадостности, словно он все еще не мог привыкнуть к тому,
что жив, после того, как его, в сущности, уже убили. И это же усатое лицо, вдруг
состарившееся, залитое слезами, когда он вспомнил, как два километра тащил на спине от
немцев своего раненого напарника, какого-то Васю, и дотащил, и уже в окопе положил на
снег, и перевернул глазами вверх — а он мертвый. И лицо женщины, слушавшей это, стоя
совсем близко, перед большим продольно-строгальным станком, со станины которого они
говорили, лицо, искаженное ужасом, словно ей вдруг показали "похоронку"
на мужа. И другие лица — русские и нерусские, худые, грязные, закопченные. И
внезапно вспыхнувшее воспоминание о шеренге, построенной там, в Сталинграде, под
волжским откосом, из остатков получавшего гвардейское знамя полка, где были тоже
усталые, тоже и русские и нерусские лица. И хотя там, в Сталинграде, были одни мужские
лица — а здесь и женские, и детские, — все равно это вспомнилось. Не по сходству, а по
какому-то более глубокому чувству общности между тем и другим. И в конце митинга
82