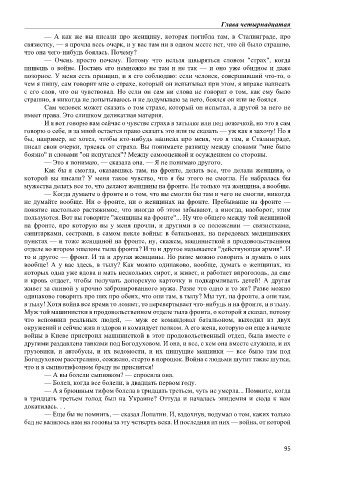Page 95 - "Двадцать дней без войны"
P. 95
Глава четырнадцатая
— А как же вы писали про женщину, которая погибла там, в Сталинграде, про
связистку, — я прочла весь очерк, и у вас там ни в одном месте нет, что ей было страшно,
что она чего-нибудь боялась. Почему?
— Очень просто почему. Потому что нельзя швыряться словом "страх", когда
пишешь о войне. Поставь его немножко не там и не так — и оно уже обидное и даже
позорное. У меня есть принцип, и я его соблюдаю: если человек, совершивший что-то, о
чем я пишу, сам говорит мне о страхе, который он испытывал при этом, я вправе написать
с его слов, что он чувствовал. Но если он сам ни слова не говорит о том, как ему было
страшно, я никогда не допытываюсь и не додумываю за него, боялся он или не боялся.
Сам человек может сказать о том страхе, который он испытал, а другой за него не
имеет права. Это слишком деликатная материя.
И я вот говорю вам сейчас о чувстве страха в затылке или под ложечкой, но это я сам
говорю о себе, и за мной остается право сказать это или не сказать — уж как я захочу! Но я
бы, например, не хотел, чтобы кто-нибудь написал про меня, что я там, в Сталинграде,
писал свои очерки, трясясь от страха. Вы понимаете разницу между словами "мне было
боязно" и словами "он испугался"? Между самооценкой и осуждением со стороны.
— Это я понимаю, — сказала она. — Я не понимаю другого.
Как бы я смогла, оказавшись там, на фронте, делать все, что делала женщина, о
которой вы писали? У меня такое чувство, что я бы этого не смогла. Не набралась бы
мужества делать все то, что делают женщины на фронте. Не только эта женщина, а вообще.
— Когда думаете о фронте и о том, что вы смогли бы там и чего не смогли, никогда
не думайте вообще. Ни о фронте, ни о женщинах на фронте. Пребывание на фронте —
понятие настолько растяжимое, что иногда об этом забывают, а иногда, наоборот, этим
пользуются. Вот вы говорите "женщины на фронте"... Ну что общего между той женщиной
на фронте, про которую вы у меня прочли, и другими в ее положении — связистками,
санитарками, сестрами, в самом пекле войны: в батальонах, на передовых медицинских
пунктах — и тоже женщиной на фронте, ну, скажем, машинисткой в продовольственном
отделе во втором эшелоне тыла фронта? И то и другое называется "действующая армия". И
то и другое — фронт. И та и другая женщины. Но разве можно говорить и думать о них
вообще! А у вас здесь, в тылу? Как можно одинаково, вообще, думать о женщинах, из
которых одна уже вдова и мать нескольких сирот, и живет, и работает впроголодь, да еще
и кровь отдает, чтобы получать донорскую карточку и подкармливать детей! А другая
живет за спиной у прочно забронированного мужа. Разве это одно и то же? Разве можно
одинаково говорить про них про обеих, что они там, в тылу? Мы тут, на фронте, а они там,
в тылу! Хотя война все время то ломает, то перевертывает что-нибудь и на фронте, и в тылу.
Муж той машинистки в продовольственном отделе тыла фронта, о которой я сказал, потому
что вспомнил реальных людей, — муж ее командовал батальоном, выходил из двух
окружений и сейчас жив и здоров и командует полком. А его жена, которую он еще в начале
войны в Киеве пристроил машинисткой в этот продовольственный отдел, была вместе с
другими раздавлена танками под Богодуховом. И она, и все, с кем она вместе служила, и их
грузовики, и автобусы, и их ведомости, и их пишущие машинки — все было там под
Богодуховом расстреляно, сожжено, стерто в порошок. Война с людьми шутит такие шутки,
что и в сыпнотифозном бреду не приснятся!
— А вы болели сыпняком? — спросила она.
— Болел, когда все болели, в двадцать первом году.
— А я брюшным тифом болела в тридцать третьем, чуть не умерла... Помните, когда
в тридцать третьем голод был на Украине? Оттуда и началась эпидемия и сюда к нам
докатилась. . .
— Еще бы не помнить, — сказал Лопатин. И, вздохнув, подумал о том, каких только
бед не валилось нам на головы за эту четверть века. И последняя из них — война, от которой
95