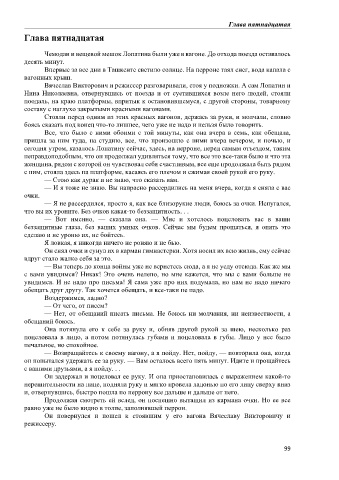Page 99 - "Двадцать дней без войны"
P. 99
Глава пятнадцатая
Глава пятнадцатая
Чемодан и вещевой мешок Лопатина были уже в вагоне. До отхода поезда оставалось
десять минут.
Впервые за все дни в Ташкенте светило солнце. На перроне таял снег, вода капала с
вагонных крыш.
Вячеслав Викторович и режиссер разговаривали, стоя у подножки. А сам Лопатин и
Нина Николаевна, отвернувшись от поезда и от суетившихся возле него людей, стояли
поодаль, на краю платформы, впритык к остановившемуся, с другой стороны, товарному
составу с наглухо закрытыми красными вагонами.
Стояли перед одним из этих красных вагонов, держась за руки, и молчали, словно
боясь сказать под конец что-то лишнее, чего уже не надо и нельзя было говорить.
Все, что было с ними обоими с той минуты, как она вчера в семь, как обещала,
пришла за ним туда, на студию, все, что произошло с ними вчера вечером, и ночью, и
сегодня утром, казалось Лопатину сейчас, здесь, на перроне, перед самым отъездом, таким
неправдоподобным, что он продолжал удивляться тому, что все это все-таки было и что эта
женщина, рядом с которой он чувствовал себя счастливым, все еще продолжала быть рядом
с ним, стояла здесь на платформе, касаясь его плечом и сжимая своей рукой его руку.
— Стою как дурак и не знаю, что сказать вам.
— И я тоже не знаю. Вы напрасно рассердились на меня вчера, когда я сняла с вас
очки.
— Я не рассердился, просто я, как все близорукие люди, боюсь за очки. Испугался,
что вы их уроните. Без очков какая-то беззащитность. . .
— Вот именно, — сказала она. — Мне и хотелось поцеловать вас в ваши
беззащитные глаза, без ваших умных очков. Сейчас мы будем прощаться, я опять это
сделаю и не уроню их, не бойтесь.
Я ловкая, я никогда ничего не роняю и не бью.
Он снял очки и сунул их в карман гимнастерки. Хотя носил их всю жизнь, ему сейчас
вдруг стало жалко себя за это.
— Вы теперь до конца войны уже не вернетесь сюда, а я не уеду отсюда. Как же мы
с вами увидимся? Никак! Это очень нелепо, но мне кажется, что мы с вами больше не
увидимся. И не надо про письма! Я сама уже про них подумала, но нам не надо ничего
обещать друг другу. Так хочется обещать, и все-таки не надо.
Воздержимся, ладно?
— От чего, от писем?
— Нет, от обещаний писать письма. Не боюсь ни молчания, ни неизвестности, а
обещаний боюсь.
Она потянула его к себе за руку и, обняв другой рукой за шею, несколько раз
поцеловала в лицо, а потом потянулась губами и поцеловала в губы. Лицо у нее было
печальное, но спокойное.
— Возвращайтесь к своему вагону, а я пойду. Нет, пойду, — повторила она, когда
он попытался удержать ее за руку. — Вам осталось всего пять минут. Идите и прощайтесь
с вашими друзьями, а я пойду. . .
Он задержал и поцеловал ее руку. И она приостановилась с выражением какой-то
нерешительности на лице, подняла руку и мягко провела ладонью по его лицу сверху вниз
и, отвернувшись, быстро пошла по перрону все дальше и дальше от него.
Продолжая смотреть ей вслед, он поспешно вытащил из кармана очки. Но ее все
равно уже не было видно в толпе, заполнявшей перрон.
Он повернулся и пошел к стоявшим у его вагона Вячеславу Викторовичу и
режиссеру.
99