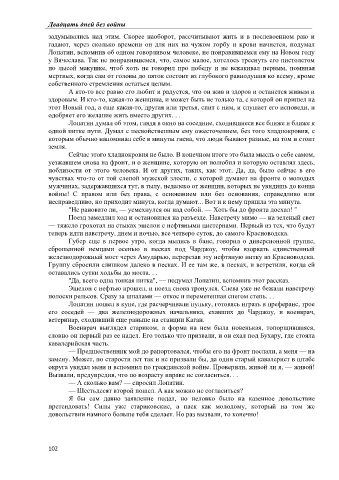Page 102 - "Двадцать дней без войны"
P. 102
Двадцать дней без войны
задумывались над этим. Скорее наоборот, рассчитывают жить и в послевоенном раю и
гадают, через сколько времени он для них на чужом горбу и крови начнется, подумал
Лопатин, вспомнив об одном говорливом человеке, не понравившемся ему на Новом году
у Вячеслава. Так не понравившемся, что, самое малое, хотелось треснуть его пистолетом
по лысой макушке, чтоб хоть не говорил про победу и не вскакивал первым, поминая
мертвых, когда сам от головы до пяток состоит из глубокого равнодушия ко всему, кроме
собственного стремления остаться целым.
А кто-то все равно его любит и радуется, что он жив и здоров и останется живым и
здоровым. И кто-то, какая-то женщина, и может быть не только та, с которой он пришел на
этот Новый год, а еще какая-то, другая или третья, спит с ним, и слушает его исповеди, и
одобряет его желание жить вместо других. . .
Лопатин думал об этом, глядя в окно на соседние, сходившиеся все ближе и ближе к
одной нитке пути. Думал с несвойственным ему ожесточением, без того хладнокровия, с
которым обычно напоминал себе в минуты гнева, что люди бывают разные, на том и стоит
земля.
Сейчас этого хладнокровия не было. В конечном итоге это была мысль о себе самом,
уезжавшем снова на фронт, и о женщине, которую он полюбил и которую оставлял здесь,
поблизости от этого человека. И от других, таких, как этот. Да, да, было сейчас в его
чувствах что-то от той слепой мужской злости, с которой думают на фронте о молодых
мужчинах, задержавшихся тут, в тылу, недалеко от женщин, которых не увидишь до конца
войны! С правом или без права, с основанием или без основания, справедливо или
несправедливо, но приходит минута, когда думают... Вот и к нему пришла эта минута.
"Не рановато ли, — усмехнулся он над собой. — Хоть бы до фронта доехал! "
Поезд замедлил ход и остановился на разъезде. Навстречу мимо — на зеленый свет
— тяжело грохотал на стыках эшелон с нефтяными цистернами. Первый из тех, что будут
теперь идти навстречу, днем и ночью, все четверо суток, до самого Красноводска.
Губер еще в первое утро, когда мылись в бане, говорил о диверсионной группе,
сброшенной немцами осенью в песках под Чарджоу, чтобы взорвать единственный
железнодорожный мост через Амударью, перерезав эту нефтяную нитку из Красноводска.
Группу сбросили слишком далеко в песках. И ее там же, в песках, и встретили, когда ей
оставались сутки ходьбы до моста. . .
"Да, всего одна тонкая нитка", — подумал Лопатин, вспомнив этот рассказ.
Эшелон с нефтью прошел, и поезд снова тронулся. Слева уже не бежали навстречу
полоски рельсов. Сразу за шпалами — откос и переметенная снегом степь. . .
Лопатин пошел в купе, где расчерчивали пульку, готовясь играть в преферанс, трое
его соседей — два железнодорожных начальника, ехавших до Чарджоу, и военврач,
ветеринар, сходивший еще раньше на станции Каган.
Военврач выглядел стариком, а форма на нем была новенькая, топорщившаяся,
словно он первый раз ее надел. Его только что призвали, и он ехал под Бухару, где стояла
кавалерийская часть.
— Предшественник мой до рапортовался, чтобы его на фронт послали, а меня — на
замену. Может, по старости лет так и не призвали бы, да один старый кавалерист в штабе
округа увидал меня и вспомнил по гражданской войне. Проверили, живой ли я, — живой!
Вызвали, предупредив, что по возрасту вправе не согласиться. . .
— А сколько вам? — спросил Лопатин.
— Шестьдесят второй пошел. А как можно не согласиться?
Я бы сам давно заявление подал, но неловко было на казенное довольствие
претендовать! Силы уже стариковские, а паек как молодому, который на том же
довольствии намного больше тебя сделает. Но раз вызвали, то конечно!
102