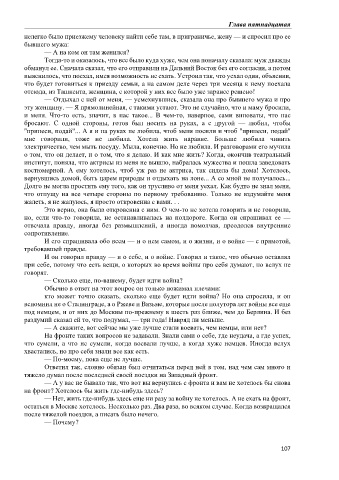Page 107 - "Двадцать дней без войны"
P. 107
Глава пятнадцатая
нелегко было приезжему человеку найти себе там, в приграничье, жену — и спросил про ее
бывшего мужа:
— А на ком он там женился?
Тогда-то и оказалось, что все было куда хуже, чем она поначалу сказала: муж дважды
обманул ее. Сначала сказал, что его отправили на Дальний Восток без его согласия, а потом
выяснилось, что поехал, имея возможность не ехать. Устроил так, что уехал один, объяснив,
что будет готовиться к приезду семьи, а на самом деле через три месяца к нему поехала
отсюда, из Ташкента, женщина, с которой у них все было уже заранее решено!
— Отдыхал с ней от меня, — усмехнувшись, сказала она про бывшего мужа и про
эту женщину. — Я прямолинейная, с такими устают. Это не случайно, что и маму бросили,
и меня. Что-то есть, значит, в нас такое... В чем-то, наверное, сами виноваты, что нас
бросают. С одной стороны, готов был носить на руках, а с другой — любил, чтобы
"принеси, подай"... А я и на руках не любила, чтоб меня носили и чтоб "принеси, подай"
мне говорили, тоже не любила. Хотела жить наравне. Больше любила чинить
электричество, чем мыть посуду. Мыла, конечно. Но не любила. И разговорами его мучила
о том, что он делает, и о том, что я делаю. И как мне жить? Когда, окончив театральный
институт, поняла, что актрисы из меня не вышло, набралась мужества и пошла заведовать
костюмерной. А ему хотелось, чтоб уж раз не актриса, так сидела бы дома! Хотелось,
вернувшись домой, быть царем природы и отдыхать на лоне... А со мной не получалось...
Долго не могла простить ему того, как он трусливо от меня уехал. Как будто не знал меня,
что отпущу на все четыре стороны по первому требованию. Только не вздумайте меня
жалеть, я не жалуюсь, я просто откровенна с вами. . .
Это верно, она была откровенна с ним. О чем-то не хотела говорить и не говорила,
но, если что-то говорила, не останавливалась на полдороге. Когда он спрашивал ее —
отвечала правду, иногда без размышлений, а иногда помолчав, преодолев внутренние
сопротивление.
И его спрашивала обо всем — и о нем самом, и о жизни, и о войне — с прямотой,
требовавшей правды.
И он говорил правду — и о себе, и о войне. Говорил и такое, что обычно оставлял
при себе, потому что есть вещи, о которых во время войны про себя думают, но вслух не
говорят.
— Сколько еще, по-вашему, будет идти война?
Обычно в ответ на этот вопрос он только пожимал плечами:
кто может точно сказать, сколько еще будет идти война? Но она спросила, и он
вспомнил не о Сталинграде, а о Ржеве и Вязьме, которые после полутора лет войны все еще
под немцем, и от них до Москвы по-прежнему в шесть раз ближе, чем до Берлина. И без
раздумий сказал ей то, что подумал, — три года! Навряд ли меньше.
— А скажите, вот сейчас мы уже лучше стали воевать, чем немцы, или нет?
На фронте таких вопросов не задавали. Знали сами о себе, где неудача, а где успех,
что сумели, а что не сумели, когда воевали лучше, а когда хуже немцев. Иногда вслух
хвастались, но про себя знали все как есть.
— По-моему, пока еще не лучше.
Ответил так, словно обязан был отчитаться перед ней в том, над чем сам много и
тяжело думал после последней своей поездки на Западный фронт.
— А у вас не бывало так, что вот вы вернулись с фронта и вам не хотелось бы снова
на фронт? Хотелось бы жить где-нибудь здесь?
— Нет, жить где-нибудь здесь еще ни разу за войну не хотелось. А не ехать на фронт,
остаться в Москве хотелось. Несколько раз. Два раза, во всяком случае. Когда возвращался
после тяжелой поездки, а писать было нечего.
— Почему?
107