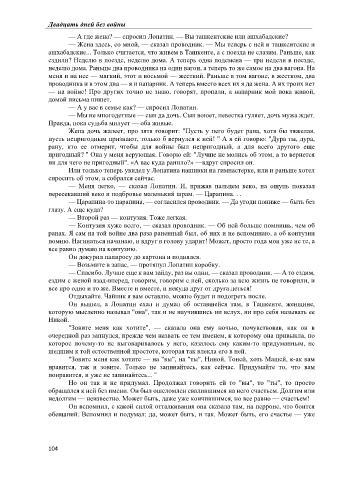Page 104 - "Двадцать дней без войны"
P. 104
Двадцать дней без войны
— А где жена? — спросил Лопатин. — Вы ташкентские или ашхабадские?
— Жена здесь, со мной, — сказал проводник. — Мы теперь с ней и ташкентские и
ашхабадские... Только считается, что живем в Ташкенте, а с поезда не слазим. Раньше, как
ездили? Неделю в поезде, неделю дома. А теперь одна подсмена — три недели в поезде,
неделю дома. Раньше два проводника на один вагон, а теперь то же самое на два вагона. На
меня и на нее — мягкий, этот и восьмой — жесткий. Раньше в том вагоне, в жестком, два
проводника и в этом два — я и напарник. А теперь вместо всех их я да жена. А их троих нет
— на войне! Про других точно не знаю, говорят, пропали, а напарник мой пока живой,
домой письма пишет.
— А у вас в семье как? — спросил Лопатин.
— Мы не многодетные — сын да дочь. Сын воюет, невестка гуляет, дочь мужа ждет.
Правда, пока судьба милует — оба живые.
Жена дочь жалеет, про зятя говорит: "Пусть у него будет рана, хотя бы тяжелая,
пусть непригодным признают, только б вернулся к ней! " А я ей говорю: "Дура ты, дура,
рану, кто ее отмерит, чтобы для войны был непригодный, а для всего другого еще
пригодный? " Она у меня верующая. Говорю ей: "Лучше не молись об этом, а то вернется
ни для чего не пригодный". «А вас куда ранило?» —вдруг спросил он.
Или только теперь увидел у Лопатина нашивки на гимнастерке, или и раньше хотел
спросить об этом, а собрался сейчас.
— Меня легко, — сказал Лопатин. И, прижав пальцем веко, на ощупь показал
пересекавший веко и подбровье маленький шрам. — Царапина. . .
— Царапина-то царапина, — согласился проводник. — Да угоди пониже — быть без
глазу. А еще куда?
— Второй раз — контузия. Тоже легкая.
— Контузия хуже всего, — сказал проводник. — Об ней больше помнишь, чем об
ранах. Я сам на той войне два раза раненный был, об них и не вспоминаю, а об контузии
помню. Нагинаться начинаю, и вдруг в голову ударит! Может, просто года мои уже не те, а
все равно думаю на контузию.
Он докурил папиросу до картона и поднялся.
— Возьмите в запас, — протянул Лопатин коробку.
— Спасибо. Лучше еще к вам зайду, раз вы одни, — сказал проводник. — А то ездим,
ездим с женой взад-вперед, говорим, говорим с ней, сколько за всю жизнь не говорили, и
все про одно и то же. Вместе и вместе, и некуда друг от друга деться!
Отдыхайте. Чайник я вам оставлю, можно будет и подогреть после.
Он вышел, а Лопатин ехал и думал об оставшейся там, в Ташкенте, женщине,
которую мысленно называл "она", так и не научившись ни вслух, ни про себя называть ее
Никой.
"Зовите меня как хотите", — сказала она ему ночью, почувствовав, как он в
очередной раз запнулся, прежде чем назвать ее тем именем, к которому она привыкла, по
которое почему-то не выговаривалось у него, казалось ему каким-то придуманным, не
шедшим к той естественной простоте, которая так влекла его в ней.
"Зовите меня как хотите — на "вы", на "ты", Ниной, Тоней, хоть Машей, к-ак вам
нравится, так и зовите. Только не запинайтесь, как сейчас. Придумайте то, что вам
понравится, и уже не запинайтесь... "
Но он так и не придумал. Продолжал говорить ей то "вы", то "ты", то просто
обращался к ней без имени. Он был ошеломлен свалившимся на него счастьем. Долгим или
недолгим — неизвестно. Может быть, даже уже кончившимся, но все равно — счастьем!
Он вспомнил, с какой силой отталкивания она сказала там, на перроне, что боится
обещаний. Вспомнил и подумал: да, может быть, и так. Может быть, его счастье — уже
104