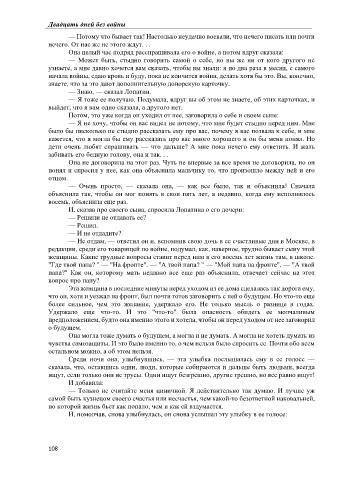Page 108 - "Двадцать дней без войны"
P. 108
Двадцать дней без войны
— Потому что бывает так! Настолько неудачно воевали, что нечего писать или почти
нечего. От нас же не этого ждут. . .
Она целый час подряд расспрашивала его о войне, а потом вдруг сказала:
— Может быть, стыдно говорить самой о себе, но вы же ни от кого другого не
узнаете, а мне давно хочется вам сказать, чтобы вы знали: я по два раза в месяц, с самого
начала войны, сдаю кровь и буду, пока не кончится война, делать хотя бы это. Вы, конечно,
знаете, что за это дают дополнительную донорскую карточку.
— Знаю, — сказал Лопатин.
— Я тоже ее получаю. Подумала, вдруг вы об этом не знаете, об этих карточках, и
выйдет, что я вам одно сказала, а другого нет.
Потом, это уже когда он уходил от нее, заговорила о себе и своем сыне:
— Я не хочу, чтобы он вас видел не потому, что мне будет стыдно перед ним. Мне
было бы нисколько не стыдно рассказать ему про вас, почему я вас позвала к себе, и мне
кажется, что я могла бы ему рассказать про вас много хорошего и он бы меня понял. Но
дети очень любят спрашивать — что дальше? А мне пока нечего ему ответить. И жаль
забивать его бедную голову, она и так. . .
Она не договорила на этот раз. Чуть не впервые за все время не договорила, но он
понял и спросил у нее, как она объяснила мальчику то, что произошло между ней и его
отцом.
— Очень просто, — сказала она, — как все было, так и объяснила! Сначала
объяснила так, чтобы он мог понять в свои пять лет, а недавно, когда ему исполнилось
восемь, объяснила еще раз.
И, сказав про своего сына, спросила Лопатина о его дочери:
— Решили не отдавать ее?
— Решил.
— И не отдадите?
— Не отдам, — ответил он и, вспомнив свою дочь в ее счастливые дни в Москве, в
редакции, среди его товарищей по войне, подумал, как, наверное, трудно бывает сыну этой
женщины. Какие трудные вопросы ставит перед ним в его восемь лет жизнь там, в школе.
"Где твой папа? " — "На фронте". — "А твой папа? " — "Мой папа на фронте". — "А твой
папа?" Как он, которому мать недавно все еще раз объяснила, отвечает сейчас на этот
вопрос про папу?
Эта женщина в последние минуты перед уходом из ее дома сделалась так дорога ему,
что он, хотя и уезжал на фронт, был почти готов заговорить с ней о будущем. Но что-то еще
более сильное, чем это желание, удержало его. Не только мысль о разнице в годах.
Удержало еще что-то. И это "что-то" была опасность обидеть ее молчаливым
предположением, будто она именно этого и хотела, чтобы он перед уходом от нее заговорил
о будущем.
Она могла тоже думать о будущем, а могла и не думать. А могла не хотеть думать из
чувства самозащиты. И это было именно то, о чем нельзя было спросить ее. Почти обо всем
остальном можно, а об этом нельзя.
Среди ночи она, улыбнувшись, — эта улыбка послышалась ему в ее голосе —
сказала, что, оставшись одни, люди, которые собираются и дальше быть людьми, всегда
ищут, если только они не трусы. Одни ищут безгрешно, другие грешно, но все равно ищут!
И добавила:
— Только не считайте меня циничной. Я действительно так думаю. И лучше уж
самой быть кузнецом своего счастья или несчастья, чем какой-то безответной наковальней,
по которой жизнь бьет как попало, чем и как ей вздумается.
И, помолчав, снова улыбнулась, он снова услышал эту улыбку в ее голосе:
108