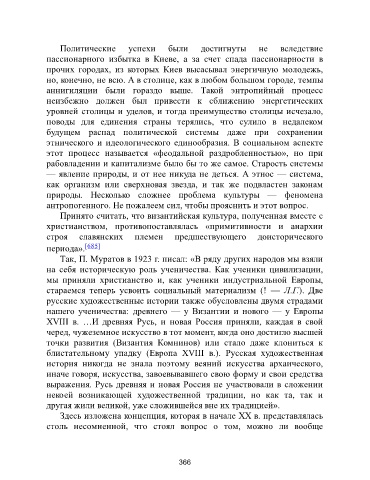Page 366 - Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., АСТ.1989.
P. 366
Политические успехи были достигнуты не вследствие
пассионарного избытка в Киеве, а за счет спада пассионарности в
прочих городах, из которых Киев высасывал энергичную молодежь,
но, конечно, не всю. А в столице, как в любом большом городе, темпы
аннигиляции были гораздо выше. Такой энтропийный процесс
неизбежно должен был привести к сближению энергетических
уровней столицы и уделов, и тогда преимущество столицы исчезало,
поводы для единения страны терялись, что сулило в недалеком
будущем распад политической системы даже при сохранении
этнического и идеологического единообразия. В социальном аспекте
этот процесс называется «феодальной раздробленностью», но при
рабовладении и капитализме было бы то же самое. Старость системы
— явление природы, и от нее никуда не деться. А этнос — система,
как организм или сверхновая звезда, и так же подвластен законам
природы. Несколько сложнее проблема культуры — феномена
антропогенного. Не пожалеем сил, чтобы прояснить и этот вопрос.
Принято считать, что византийская культура, полученная вместе с
христианством, противопоставлялась «примитивности и анархии
строя славянских племен предшествующего доисторического
периода». [685]
Так, П. Муратов в 1923 г. писал: «В ряду других народов мы взяли
на себя историческую роль ученичества. Как ученики цивилизации,
мы приняли христианство и, как ученики индустриальной Европы,
стараемся теперь усвоить социальный материализм (! — Л.Г.). Две
русские художественные истории также обусловлены двумя страдами
нашего ученичества: древнего — у Византии и нового — у Европы
XVIII в. …И древняя Русь, и новая Россия приняли, каждая в свой
черед, чужеземное искусство в тот момент, когда оно достигло высшей
точки развития (Византия Комнинов) или стало даже клониться к
блистательному упадку (Европа XVIII в.). Русская художественная
история никогда не знала поэтому веяний искусства архаического,
иначе говоря, искусства, завоевывавшего свою форму и свои средства
выражения. Русь древняя и новая Россия не участвовали в сложении
некоей возникающей художественной традиции, но как та, так и
другая жили великой, уже сложившейся вне их традицией».
Здесь изложена концепция, которая в начале XX в. представлялась
столь несомненной, что стоял вопрос о том, можно ли вообще
366