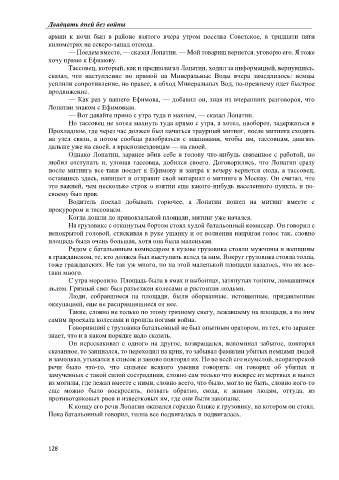Page 128 - "Двадцать дней без войны"
P. 128
Двадцать дней без войны
армии к ночи был в районе взятого вчера утром поселка Советское, в тридцати пяти
километрах на северо-запад отсюда.
— Поедем вместе, — сказал Лопатин. — Мой товарищ вернется, уговорю его. Я тоже
хочу прямо к Ефимову.
Тассовец, который, как и предполагал Лопатин, ходил за информацией, вернувшись,
сказал, что наступление по прямой на Минеральные Воды вчера замедлилось: немцы
усилили сопротивление, но правее, в обход Минеральных Вод, по-прежнему идет быстрое
продвижение.
— Как раз у вашего Ефимова, — добавил он, зная из вчерашних разговоров, что
Лопатин знаком с Ефимовым.
— Вот давайте прямо с утра туда и махнем, — сказал Лопатин.
Но тассовец не хотел махнуть туда прямо с утра, а хотел, наоборот, задержаться в
Прохладном, где через час должен был начаться траурный митинг, после митинга сходить
на узел связи, а потом сообща разобраться с машинами, чтобы им, тассовцам, двигать
дальше уже на своей, а краснозвездовцам — на своей.
Однако Лопатин, заранее вбив себе в голову что-нибудь связанное с работой, но
любил отступать и, уломав тассовца, добился своего. Договорились, что Лопатин сразу
после митинга все-таки поедет к Ефимову и завтра к вечеру вернется сюда, а тассовец,
оставшись здесь, напишет и отправит свой материал о митинге в Москву. Он считал, что
это важней, чем несколько строк о взятии еще какого-нибудь населенного пункта, и по-
своему был прав.
Водитель поехал добывать горючее, а Лопатин пошел на митинг вместе с
прокурором и тассовцем.
Когда дошли до привокзальной площади, митинг уже начался.
На грузовике с откинутым бортом стоял худой батальонный комиссар. Он говорил с
непокрытой головой, стискивая в руке ушанку и от волнения напрягая голос так, словно
площадь была очень большая, хотя она была маленькая.
Рядом с батальонным комиссаром в кузове грузовика стояли мужчины и женщины
в гражданском, те, кто должен был выступить вслед за ним. Вокруг грузовика стояла толпа,
тоже гражданских. Не так уж много, но на этой маленькой площади казалось, что их все-
таки много.
С утра морозило. Площадь была в ямах и выбоинах, затянутых тонким, ломавшимся
льдом. Грязный снег был разъезжен колесами и растоптан людьми.
Люди, собравшиеся на площади, были оборванные, истощенные, придавленные
оккупацией, еще не распрямившиеся от нее.
Такие, словно не только по этому грязному снегу, лежавшему на площади, а по ним
самим проехала колесами и прошла ногами война.
Говоривший с грузовика батальонный не был опытным оратором, из тех, кто заранее
знает, что и в каком порядке надо сказать.
Он перескакивал с одного на другое, возвращался, вспоминал забытое, повторял
сказанное, то запинался, то переходил на крик, то забывал фамилии убитых немцами людей
и замолкал, утыкался в список и заново повторял их. Но во всей его неумелой, неораторской
речи было что-то, что сильнее всякого умения говорить: он говорил об убитых и
замученных с такой силой сострадания, словно сам только что воскрес из мертвых и вылез
из могилы, где лежал вместе с ними, словно всего, что было, могло не быть, словно кого-то
еще можно было воскресить, позвать обратно, сюда, к живым людям, оттуда, из
противотанковых рвов и известковых ям, где они были закопаны.
К концу его речи Лопатин оказался гораздо ближе к грузовику, на котором он стоял.
Пока батальонный говорил, толпа все подвигалась и подвигалась.
128