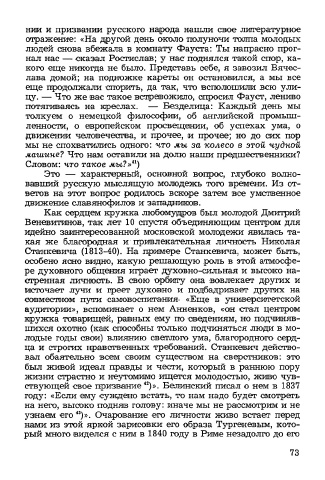Page 76 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992
P. 76
нии и призвании русского народа нашли свое литературное
отражение: «На другой день около полуночи толпа молодых
людей снова вбежала в комнату Фауста: Ты напрасно прог
нал нас — оказал Ростислав; у нас поднялся такой спор, ка
кого еще никогда не было. Представь себе, я завозил Вячес
лава домой; на подножке кареты он остановился, а мы все
еще продолжали спорить, да так, что всполошили всю ули
цу. — Что же вас такое встревожило, опросил Фауст, лениво
потягиваясь на креслах. — Безделица: Каждый день мы
толкуем о немецкой философии, об английской промыш
ленности, о европейском просвещении, об успехах ума, о
(движении человечества, и прочее, и прочее; но до сих пор
мы не спохватились одного: что мы за колесо в этой чудной
машине? Что нам оставили на долю наши предшественники?
Словом: что такое мы?»41)
Это — характерный, основной вопрос, глубоко волно
вавший русскую мыслящую молодежь того времени. Из от
ветов на этот вопрос родилось вскоре затем вое умственное
движение славянофилов и западников.
Как сердцем кружка любомудров был молодой Дмитрий
Веневитинов, так лет 10 спустя объединяющим центром для
идейно заинтересованной москов'ской молодежи явилась та
кая же благородная и привлекательная личность Николая
Станкевича (1813-40). На примере Станкевича, может быть,
особено ясно видно, какую решающую роль в этой атмосфе
ре духовного общения играет духовно-сильная и высоко на-
стренная личность. В свою орбиггу она вовлекает других и
источает лучи и греет духовно и подбадривает других на
совместном пути самовоспитания* «Еще в университетской
аудитории», вспоминает о нем Анненков, «он стал центром
кружка товарищей, равных ему по сведениям, но подчиняв
шихся охотно (как способны только подчиняться люди в мо
лодые годы свои) влиянию светлого ума, благородного серд
ца и строгих нравственных требований. Станкевич действо
вал обаятельно воем своим существом на сверстников: это
был живой идеал правды и чести, который в раннюю пору
жизни страстно и неутомимо ищется молодостью, живо чув
ствующей свое призвание42)». Белинский писал о нем в 1837
году: «Если ему «суждено встать, то нам надо будет смотреть
на него, высоко подняв голову: иначе мы не рассмотрим и не
узнаем е го 43)». Очарование его личности живо встает перед
нами из этой яркой зарисовки его образа Тургеневым, кото
рый много виделся с ним в 1840 году в Риме незадолго до его
73