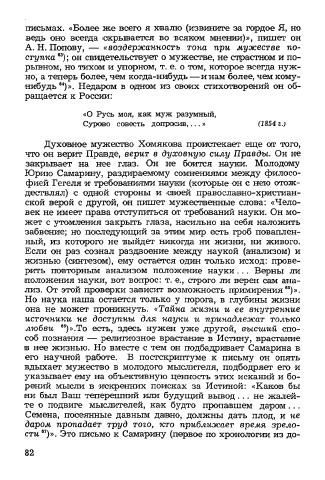Page 85 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992
P. 85
письмах. «Более же всего я хвалю (извините за гордое Я, но
ведь оно всегда 'скрывается во всяком мнении)», пишет он
А. Н. Попову, — «воздержанность тона при мужестве по
ступка вз) ; он свидетельствует о мужестве, не страстном и по-
рывном, но тихом и упорном, т. е. о том, которое всегда нуж
но, а теперь более, чем когда-нибудь— и нам более, чем кому-
нибудь ®4) ». Недаром в одном из своих стихотворений он об
ращается к России:
«О Русь моя, как муж разумный,
Сурово совесть допросив,. . . » (1854 г.)
Духовное мужество Хомякова проистекает еще от того,
что он верит Правде, верит в духовную силу Правды. Он не
закрывает на нее глаз. Он не боится науки. Молодому
Юрию Самарину, раздираемому сомнениями между филосо
фией Гегеля и требованиями науки (которые он с нею отож
дествлял) с одной стороны и -своей право славно-христиан-
ской верой с другой, он пишет мужественные слова: «Чело
век не имеет права отступиться от требований науки. Он мо
жет с утомления закрыть глаза, насильно на себя наложить
забвение; но последующий за этим мир есть гроб поваплен
ный, из которого не выйдет никогда ни жизни, ни живого.
Если он раз сознал раздвоение между наукой (анализом) и
жизнью (синтезом), ему остается один только исход: прове
рить повторным анализом положение науки.. . Верны ли
положения науки, вот вопрос: т. е., строго ли верен сам ана
лиз. От этой проверки зависит возможность примирения65)».
Но наука наша остается только у порога, в глубины жизни
она не может проникнуть. «Тайна жизни и ее внутренние
источники не доступны для науки и принадлеэюат только
любви вв)».То есть, здесь нужен уж е другой, высший спо
соб познания — религиозное врастание в Истину, врастание
в нее жизнью. Но вместе с тем он подбадривает Самарина в
его научной работе. В постскриптуме к письму он опять
вдыхает мужество в молодого мыслителя, подбодряет его и
указывает ему на объективную ценность этих исканий и бо
рений мысли в искренних поисках за Истиной: «Каков бы
ни был Ваш теперешний или будущий вывод ... не жалей
те о подвиге мыслителей, как будто пропавшем даром . . .
Семена, посеянные давным даено, должны дать плод, и не
даром пропадает труд того, кто приближает время зрело
сти ®7)». Это письмо к Самарину (первое по хронологии из до
82