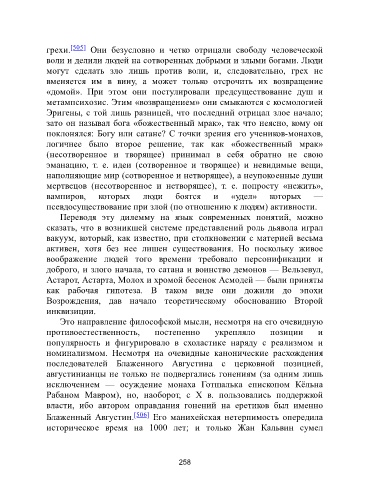Page 258 - Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., АСТ.1989.
P. 258
грехи. [505] Они безусловно и четко отрицали свободу человеческой
воли и делили людей на сотворенных добрыми и злыми богами. Люди
могут сделать зло лишь против воли, и, следовательно, грех не
вменяется им в вину, а может только отсрочить их возвращение
«домой». При этом они постулировали предсуществование душ и
метампсихозис. Этим «возвращением» они смыкаются с космологией
Эригены, с той лишь разницей, что последний отрицал злое начало;
зато он называл бога «божественный мрак», так что неясно, кому он
поклонялся: Богу или сатане? С точки зрения его учеников-монахов,
логичнее было второе решение, так как «божественный мрак»
(несотворенное и творящее) принимал в себя обратно не свою
эманацию, т. е. идеи (сотворенное и творящее) и невидимые вещи,
наполняющие мир (сотворенное и нетворящее), а неупокоенные души
мертвецов (несотворенное и нетворящее), т. е. попросту «нежить»,
вампиров, которых люди боятся и «удел» которых —
псевдосуществование при злой (по отношению к людям) активности.
Переводя эту дилемму на язык современных понятий, можно
сказать, что в возникшей системе представлений роль дьявола играл
вакуум, который, как известно, при столкновении с материей весьма
активен, хотя без нее лишен существования. Но поскольку живое
воображение людей того времени требовало персонификации и
доброго, и злого начала, то сатана и воинство демонов — Вельзевул,
Астарот, Астарта, Молох и хромой бесенок Асмодей — были приняты
как рабочая гипотеза. В таком виде они дожили до эпохи
Возрождения, дав начало теоретическому обоснованию Второй
инквизиции.
Это направление философской мысли, несмотря на его очевидную
противоестественность, постепенно укрепляло позиции и
популярность и фигурировало в схоластике наряду с реализмом и
номинализмом. Несмотря на очевидные канонические расхождения
последователей Блаженного Августина с церковной позицией,
августинианцы не только не подвергались гонениям (за одним лишь
исключением — осуждение монаха Готшалька епископом Кёльна
Рабаном Мавром), но, наоборот, с X в. пользовались поддержкой
власти, ибо автором оправдания гонений на еретиков был именно
Блаженный Августин. [506] Его манихейская нетерпимость опередила
историческое время на 1000 лет; и только Жан Кальвин сумел
258