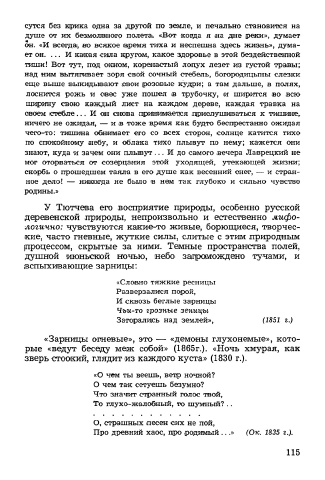Page 118 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992
P. 118
сутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на
душе от их безмолвного полетай «Вот кодда я на дне реки», думает
он. «И всегда, во всякое 1В|ремя тиха и неспешна здесь жизнь», дума
ет он. ... И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной
тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет .из густой травы;
над ним вытягивает з о р я свой сочный стебель, богородицыны слезки
еще выше выкидывают ювои розовые кудри; а там дальше, в полях,
лоснится рожь и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю
ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на
своем стебле... И он снова принимается прислушиваться к тишине,
ничего не ожидая, — и в тоже время как будто беспрестанно ожидая
чего-то: тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо
по спокойному небу, и облака тихо плывут по нему; кажется они
знают, куда и зачем они плывут... И до самого вечера Лаврецкий не
мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни;
скорбь о прошедшем таяла в его душе как весенний снег, — и стран
ное дело! — никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство
родины.»
У Тютчева его восприятие природы, особенно русской
деревенской природы, непроизвольно и естественно мифо
логично: чувствуются какие-то живые, борющиеся, творчес
кие, часто гневные, жуткие силы, слитые с этим природным
{процессом, скрытые за ними. Темные пространства полей,
душной июньской ночью, небо загромождеяо тучами, и
вспыхивающие зарницы:
«Словно тяжкие ресницы
Разверзалися порой,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались над землей», (1851 г.)
«Зарницы огневые», это — «демоны глухонемые», кото
рые «ведут беседу меж собой» (1865г.). «Ночь хмурая, как
зверь стоокий, глядит из каждого куста» (1830 г.).
«О чем ты веешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный? ..
О, страшных песен сих не пой,
Про древний хаос, про родимый ...» (Ок. 1835 г.).
115