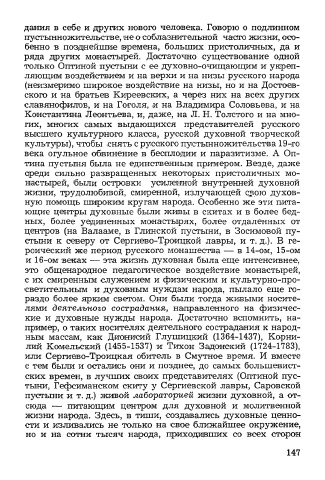Page 150 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992
P. 150
дания в себе и других нового человека. Говорю о подлинном
пустынножительстве, не о соблазнительной часто жизни, осо
бенно в позднейшие времена, больших пристоличных, да и
ряда других монастырей. Достаточно существование одной
только Оптиной пустыни с ее духовно-очищающим и укреп
ляющим воздействием и на верхи и на низы русского народа
(неизмеримо широкое воздействие на низы, но и на Достоев
ского и на братьев Киреевских, а через них на всех других
славянофилов, и на Гоголя, и на Владимира Соловьева, и на
Константина Леонтьева, и, даже, на Л. Н. Толстого и на мно
гих, многих самых выдающихся представителей русского
высшего культурного класса, русской духовной творческой
культуры), чтобы снять с русского пустынножительства 19-го
века огульное обвинение в бесплодии и паразитизме. А Оп-
тина пустыня была не единственным примером. Везде, даже
среди сильно развращенных некоторых пристоличных мо
настырей, были островки усиленной внутренней духовной
жизни, трудолюбивой, смиренной, излучающей с^рю духов
ную помощь широким кругам народа. Особенно же эти пита
ющие центры духовные были живы в скитах и в более бед
ных, более уединенных монастырях, более отдаленных от
центров (на Валааме, в Глинской пустыни, в Зосимовой пу
стыни к северу от Сергиево-Троицкой лавры, и т. д.). В ге
роический же период русского монашества — в 14-ом, 15-ом
и 16-ом веках — эта жизнь духовная была еще интенсивнее,
это общенародное педагогическое воздействие монастырей,
с их смиренным служением и физическим и культурно-про
светительным и духовным нуждам народа, пылало еще го
раздо более ярким светом. Они были тогда живыми носите
лями деятельного сострадания, направленного на физичес
кие и духовные нужды народа. Достаточно вспомнить, на
пример, о таких носителях деятельного сострадания к народ
ным массам, как Дионисий Глушицкий (1364-1437), Корни-
лий Комельский (1455-1537) и Тихон Задонский (1724-1783),
или Сергиево-Троицкая обитель в Смутное время. И вместе
с тем были и остались они и позднее, до самых большевист
ских времен, в лучших своих представителях (Оптиной пус
тыни, Гефсиманском скиту у Сергиевской лавры, Саровской
пустыни и т. д.) живой лабораторией жизни духовной, а от
сюда — питающим центром для духовной и молитвенной
жизни народа. Здесь, в т ро п и, создавались духовные ценно
сти и изливались не только на свое ближайшее окружение,
но и на сотни тысяч народа, приходивших со всех сторон
147