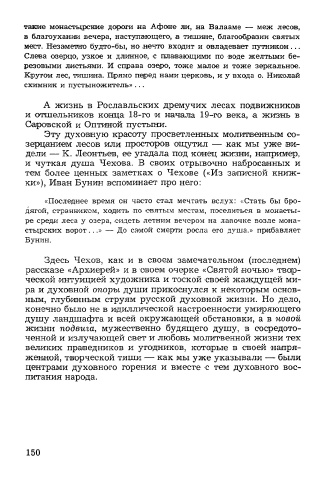Page 153 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992
P. 153
такие монастырские дороги на Афоне ли, на Валааме — меж лесов,
в благоухании вечера, наступающего, в тишине, благообразии святых
ме1ст. Незаметно будто-бы, но нечто входит и овладевает путником ...
Слева озерцо, узкое и длинное, с плавающими по воде желтыми бе
резовыми листьями. И справа озеро, тоже малое и тоже зеркальное.
Крутом лес, тишина. Прямо перед нами церковь, и у входа о. Николай
схимник и пустыножитель» ...
А жизнь в Рославльских дремучих лесах подвижников
и отшельников конца 18-го и начала 19-го века, а жизнь в
Саровской и Оптиной пустыни.
Эту духовную красоту просветленных молитвенным со
зерцанием лесов или просторов ощутил — как мы уже ви
дели — К. Леонтьев, ее угадала под конец жизни, например,
и чуткая душа Чехова. В своих отрывочно набросанных и
тем более ценных заметках о Чехове («И з записной книж
ки»), Иван Бунин вспоминает про него:
«Последнее время он часто стал мечтать вслух: «Стать бы бро
дягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монасты
ре среди леса у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле мона
стырских ворот ...» — До самой смерти росла его душа.» прибавляет
Бунин.
Здесь Чехов, как и в своем замечательном (последнем)
рассказе «Архиерей» и в своем очерке «Святой ночью» твор
ческой интуицией художника и тоской своей жаждущей ми
ра и духовной опоры души прикоснулся к некоторым основ
ным, глубинным струям русской духовной жизни. Но дело,
конечно было не в идиллической настроенности умиряющего
душу ландшафта и всей окружающей обстановки, а в новой
жизни подвига, мужественно будящего душу, в сосредото
ченной и излучающей свет и любовь молитвенной жизни тех
великих праведников и угодников, которые в своей напря
женной, творческой тиши — как мы уж е указывали — были
центрами духовного горения и вместе с тем духовного вос
питания народа.
150