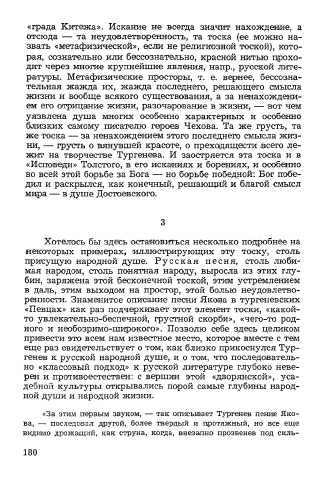Page 183 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992
P. 183
«града Китежа». Искание не всегда значит нахождение, а
отсюда ■— та неудовлетворенность, та тоска (ее можно на
звать «метафизической», если не религиозной тоской), кото
рая, сознательно или бессознательно, красной нитью прохо
дит через многие крупнейшие явления, напр., русской лите
ратуры. Метафизические просторы, т. е. вернее, бессозна
тельная жажда их, жажда последнего, решающего смысла
жизни и вообще всякого существования, а за ненахождени-
ем его отрицание жизни, разочарование в жизни, — вот чем
уязвлена душа многих особенно характерных и особенно
близких самому писателю героев Чехова. Та же грусть, та
же тоска — за ненахождением этого последнего смысла жиз
ни, — грусть о вянувшей красоте, о преходящести всего ле
жит на творчестве Тургенева. И заостряется эта тоска и в
«Исповеди» Толстого, в его исканиях и борениях, и особенно
во всей этой борьбе за Бога — но борьбе победной: Бог побе
дил и раскрылся, как конечный, решающий и благой смысл
мира — в душе Достоевского.
3
Хотелось бы здесь остановиться несколько подробнее на
некоторых примерах, иллю'стрирующих эту тоску, столь
присущую народной душе. Р у с с к а я песня, столь люби
мая народом, столь понятная народу, выросла из этих глу
бин, заряжена этой бесконечной тоской, этим устремлением
в даль, этим выходом на простор, этой болью неудовлетво
ренности. Знаменитое описание песни Якова в тургеневских
«Певцах» как раз подчеркивает этот элемент тоски, «какой-
то увлекательно-беспечной, грустной скорби», «чего-то род
ного и необозримо-широкого». Позволю себе здесь целиком
привести это всем нам известное место, которое вместе с тем
еще раз свидетельствует о том, как близко прикоснулся Тур
генев к русской народной душе,, и о том, что последователь
но «классовый подход» к русской литературе глубоко неве
рен и противоестествен: с вершин этой «дворянской», уса
дебной культуры открывались порой самые глубины народ
ной души и народной жизни.
«За этим первым звуком, — так описывает Тургенев пение Яко
ва, — последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще
видимо дрожащий, как струна, когда, внезално прозвенев под силь
180