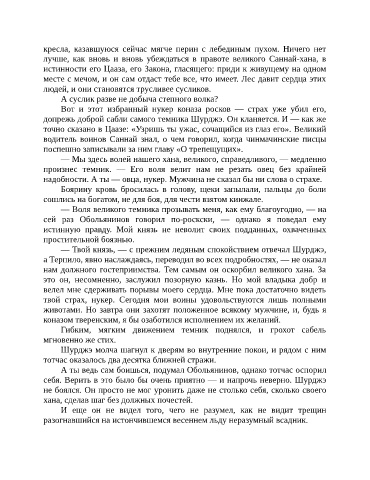Page 230 - Наше дело правое
P. 230
кресла, казавшуюся сейчас мягче перин с лебединым пухом. Ничего нет
лучше, как вновь и вновь убеждаться в правоте великого Саннай-хана, в
истинности его Цааза, его Закона, гласящего: приди к живущему на одном
месте с мечом, и он сам отдаст тебе все, что имеет. Лес давит сердца этих
людей, и они становятся трусливее сусликов.
А суслик разве не добыча степного волка?
Вот и этот избранный нукер коназа росков — страх уже убил его,
допрежь доброй сабли самого темника Шурджэ. Он кланяется. И — как же
точно сказано в Цаазе: «Узришь ты ужас, сочащийся из глаз его». Великий
водитель воинов Саннай знал, о чем говорил, когда чинмачинские писцы
поспешно записывали за ним главу «О трепещущих».
— Мы здесь волей нашего хана, великого, справедливого, — медленно
произнес темник. — Его воля велит нам не резать овец без крайней
надобности. А ты — овца, нукер. Мужчина не сказал бы ни слова о страхе.
Боярину кровь бросилась в голову, щеки запылали, пальцы до боли
сошлись на богатом, не для боя, для чести взятом кинжале.
— Воля великого темника прозывать меня, как ему благоугодно, — на
сей раз Обольянинов говорил по-роскски, — однако я поведал ему
истинную правду. Мой князь не неволит своих подданных, охваченных
простительной боязнью.
— Твой князь, — с прежним ледяным спокойствием отвечал Шурджэ,
а Терпило, явно наслаждаясь, переводил во всех подробностях, — не оказал
нам должного гостеприимства. Тем самым он оскорбил великого хана. За
это он, несомненно, заслужил позорную казнь. Но мой владыка добр и
велел мне сдерживать порывы моего сердца. Мне пока достаточно видеть
твой страх, нукер. Сегодня мои воины удовольствуются лишь полными
животами. Но завтра они захотят положенное всякому мужчине, и, будь я
коназом тверенским, я бы озаботился исполнением их желаний.
Гибким, мягким движением темник поднялся, и грохот сабель
мгновенно же стих.
Шурджэ молча шагнул к дверям во внутренние покои, и рядом с ним
тотчас оказалось два десятка ближней стражи.
А ты ведь сам боишься, подумал Обольянинов, однако тотчас оспорил
себя. Верить в это было бы очень приятно — и напрочь неверно. Шурджэ
не боялся. Он просто не мог уронить даже не столько себя, сколько своего
хана, сделав шаг без должных почестей.
И еще он не видел того, чего не разумел, как не видит трещин
разогнавшийся на истончившемся весеннем льду неразумный всадник.