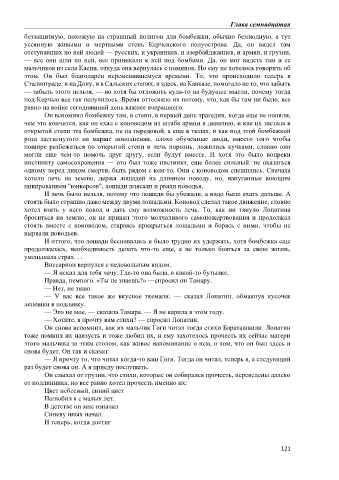Page 121 - "Двадцать дней без войны"
P. 121
Глава семнадцатая
беззащитную, похожую на страшный полигон для бомбежки, обычно безлюдную, а тут
усеянную живыми и мертвыми степь Керченского полуострова. Да, он видел там
отступавших по ней людей — русских, и украинцев, и азербайджанцев, и армян, и грузин,
— все они шли по пей, все приникали к ней под бомбами. Да, он мог видеть там и ее
мальчиков из села Касни, откуда она вернулась с поминок. Но ему не хотелось говорить об
этом. Он был благодарен переменившемуся времени. То, что происходило теперь в
Сталинграде, и на Дону, и в Сальских степях, и здесь, на Кавказе, помогало не то, что забыть
— забыть этого нельзя, — но хотя бы отложить куда-то на будущее мысли, почему тогда
под Керчью все так получилось. Время оттесняло их потому, что, как бы там ни было, все
равно на войне сегодняшний день важнее вчерашнего.
Он вспомнил бомбежку там, в степи, в первый день трагедии, когда еще не поняли,
чем это кончится, как он ехал с коноводом из штаба армии в дивизию, и как их застала в
открытой степи эта бомбежка, не на передовой, а еще в тылах, и как под этой бомбежкой
рота застигнутого на марше пополнения, плохо обученные люди, вместо того чтобы
пошире разбежаться по открытой степи и лечь порознь, ложились кучками, словно они
могли еще чем-то помочь друг другу, если будут вместе. И хотя это было вопреки
инстинкту самосохранения — ото был тоже инстинкт, еще более сильный: не оказаться
одному перед лицом смерти, быть рядом с кем-то. Они с коноводом спешились. Сначала
хотели лечь на землю, держа лошадей на длинном поводу, но, напуганные воющим
пикированием "юнкерсов", лошади плясали и рвали поводья.
И лечь было нельзя, потому что лошади бы убежали, а надо было ехать дальше. А
стоять было страшно даже между двумя лошадьми. Коновод сделал такое движение, словно
хотел взять у него повод и дать ему возможность лечь. То, как ни тянуло Лопатина
броситься на землю, он не принял этого молчаливого самопожертвования и продолжал
стоять вместе с коноводом, стараясь прикрыться лошадьми и борясь с ними, чтобы не
вырвали поводьев.
И оттого, что лошади бесновались и было трудно их удержать, хотя бомбежка еще
продолжалась, необходимость делать что-то еще, а не только бояться за свою жизнь,
уменьшала страх. . .
Виссарион вернулся с недовольным видом.
— Я искал для тебя чачу. Где-то она была, в какой-то бутылке.
Правда, немного. «Ты не знаешь?» —спросил он Тамару.
— Нет, не знаю.
— У вас все такое же вкусное ткемали, — сказал Лопатин, обмакнув кусочек
лепешки в подливку.
— Это не мое, — сказала Тамара. — Я не варила в этом году.
— Хотите, я прочту вам стихи? — спросил Лопатин.
Он снова вспомнил, как их мальчик Гоги читал тогда стихи Бараташвили. Лопатин
тоже помнил их наизусть и тоже любил их, и ему захотелось прочесть их сейчас матери
этого мальчика за этим столом, как живое напоминание о нем, о том, что он был здесь и
снова будет. Он так и сказал:
— Я прочту то, что читал когда-то ваш Гоги. Тогда он читал, теперь я, а следующий
раз будет снова он. А я приеду послушать.
Он слыхал от грузин, что стихи, которые он собирался прочесть, переведены далеко
от подлинника, но все равно хотел прочесть именно их:
Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.
И теперь, когда достиг
121