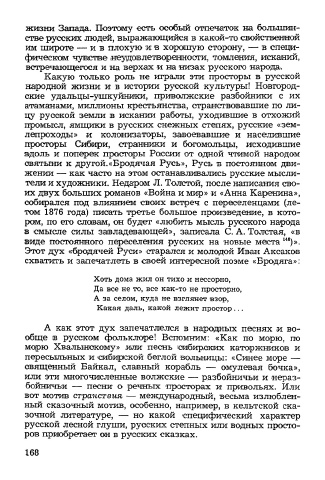Page 171 - Из русской культурной и творческой традиции. - Лондон: OPI. 1992
P. 171
жизни Запада. Поэтому есть особый отпечаток на большин
стве русских людей, вьфажающиися в какой-то свойственной
им широте — и в плохую и в хорошую сторону, — в специ
фическом чувстве неудовлетаореиности, томления, исканий,
встречающегося и на верхах и на низах русского народа.
Какую только роль не играли эти просторы в русской
народной жизни и в истории русской культуры! Новгород
ские удальцы-ушкуйники, приволжские разбойники с их
атаманами, миллионы крестьянства, странствовавшие по ли
цу русской земли в искании работы, уходившие в отхожий
промысл, ямщики в русских снежных степях, русские «зем-
лепроходы» и колонизаторы, завоевавшие и населившие
просторы Сибири, странники и богомольцы, исходившие
вдоль и поперек просторы России от одной чтимой народом
святыни к другой.«Бродячая Русь», Русь в постоянном дви
жении — как часто на этом останавливались русские мысли
тели и художники. Недаром Л. Толстой, после написания сво
их двух больших романов «Война и мир» и «Анна Каренина»,
собирался под влиянием своих встреч с переселенцами (ле
том 1876 года) писать третье большое произведение, в кото
ром, по его словам, он будет «любить мысль русского народа
в 'смысле силы завладевающей», записала С. А. Толстая, «в
виде постоянного переселения русских на новые места 14в)».
Этот дух «бродячей Руси» старался и молодой Иван Аксаков
схватить и запечатлеть в своей интересной поэме «Бродяга»:
Хоть дома жил он тихо и нессорно,
Да все не то, все как-то не просторно,
А за селом, куда не взглянет взор,
Какая даль, какой лежит простор...
А как этот дух запечатлелся в народных песнях и во
обще в русском фольклоре! Вспомним: «Как по морю, по
морю Хвалынхжому» или песнь юибирокзих каторжников и
пересыльных и сибирской беглой вольницы: «Синее море —
священный Байкал, славный корабль — омулевая бочка»,
или эти многочисленные волжские — разбойничьи и нераз
бойничьи — песни о речных 'просторах и привольях. Или
вот мотив странствия — международный, весьма излюблен
ный сказочный мотив, особенно, например, в кельтской ска
зочной литературе, — но какой специфический характер
русской лесной глуши, русских степных или водных просто
ров приобретает он в русских сказках.
168